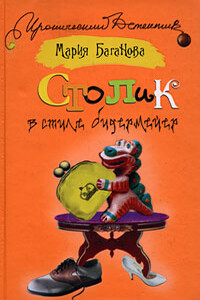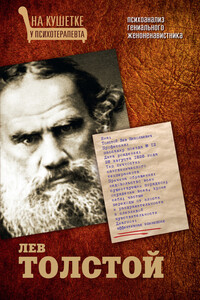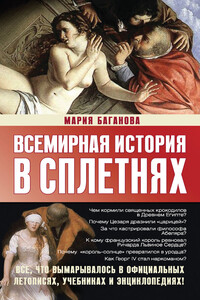Я не удержался от смеха. Расхохотался и Пешель.
– В тот раз сам император, казалось, развеселился и шутник отделался лишь строгим внушением, – продолжил рассказ Франц Осипович, – Пушкин потом постоянно и деятельно участвовал во всех лицейских журналах, импровизировал так называемые народные песни, точил на всех эпиграммы…
Пешель вновь опечалился, вспоминая давно уже выросших мальчиков: Пущин в ссылке, Кюхельбекер – в заточении, Дельвиг умер гнилою горячкой….
Мы снова выпили – за упокой. И я принялся расспрашивать Франца Осиповича о телесном здоровье покойного поэта, объяснив, что, будучи сторонником Гиппократова учения о темпераментах, питаю надежду выяснить, как зависел от здоровья тела его дивный дар. Пешель задумался.
– Болел Пушкин, пожалуй, часто: жар, лихорадка… Но болезни не были серьезными и проходили сами через пару дней. Весьма возможно, что происходили они от чрезмерной возбудимости. Холерик! Чистый холерик! В рапортах указывал я обычно что-то вроде «нездоров», «головная боль» и чаще всего «простуда». Один раз только пришлось записать «опухоль от ушиба щеки».
– Была драка?
– Не изволь сомневаться! Но Александр всегда поправлялся очень быстро, проводя на больничной конце три или пять дней… Прописывал я ему солодковый корень, он не вредит, умягчает горло, полезен желудку… благо серьезные поветрия нас миновали! Но видать мое лечение шалуну чем-то не понравилось. Может, микстура была горькой? Он меня поддел. – И Пешель принялся цитировать: «Заутра с свечкой грошевою/ Явлюсь пред образом святым: / Мой друг! остался я живым, / Но был уж смерти под косою; / Сазонов был моим слугою, / А Пешель – лекарем моим». Экий рифмоплет был уже тогда!
– Сазонов! А что за Сазонов?
– Как, ты не знаешь? Ах! Ах, мы все тут ходили «смерти под косою». – Пешель воздел руки к небу. – Я ж тебе рассказывал, что к лицеистам были приставлены «дядьки», а попросту говоря – слуги, в обязанности которых входило убирать им комнаты, чистить одежду и обувь. Одному из них – Константину Сазонову, было всего лишь двадцать лет, когда его арестовали и осудили за шесть или семь убийств и девять разбойных нападений. Последним от его рук погиб извозчик, на нем Сазонов и «погорел»: пожадничал из-за оброненного полтинника. Именно Сазонов прислуживал Пушкину в лазарете.
– О, тут не мудрено перепугаться на всю жизнь! – заметил я.
– Саша был не из пугливых, – проронил Пешель.
– А что с ним потом стало? Я о Сазонове.
– Вот этого не знаю. Осудили… На каторгу…
– Наверное, многие были напуганы до смерти…
– Уж не знаю, не знаю! Напугать шалунов было нелегко. Зато эти юные пииты коллективно состряпали целую эпическую поэму о похождениях злодея.
Пешель поднялся со своего места и ушел куда-то в заднюю комнату. Я прождал довольно долго, пока он снова появился с какой-то разлапистой тетрадью в руках. Между ее страниц было заложено еще множество исписанных листков. Вынув один из них, Пешель стал читать:
Тихо все в средине града,
И покой лишь обитает:
Из Лицея, как из ада,
Вдруг Сазонов выступает
С смертоносным топором,
На разнощика летит
И, встретясь с добрым сим купцом,
Уже готовится убить.
Уже в сени глубокой ночи
Топор ужасный он извлек,
И страшно засверкали очи,
И взором смерть ему изрек,
И вдруг в одно мгновенье
Ему всю голову расшиб.
А мальчик в сопровожденьи
Его рукою же погиб.
Я рассмеялся сему не слишком умелому творению.
– Да уж, таланты у вас подрастали! – воскликнул я.
– И не говори! – вторил мне Пешель. – Ох, сколько анекдотов можно припомнить об этих талантах! Знаешь, однажды воспитанникам Лицея было задано написать в классе сочинение о восходе солнца. Все ученики уже кончили сочинение и подали учителю; дело стало за одним, который, будучи, вероятно, рассеян и не в расположении в эту минуту писать о таком возвышенном предмете, только вывел на листе бумаги следующую строчку: «Восстал на Западе блестящий сын природы…» «Что ж ты не кончаешь?» – сказал автору этих слов Пушкин, который прочитал написанное. «Да ничего на ум нейдет, помоги, пожалуйста, – все уже подали, за мной остановка!» «Изволь!» – И Пушкин так окончил начатое сочинение: