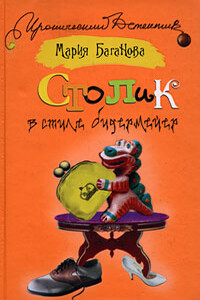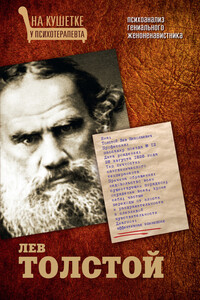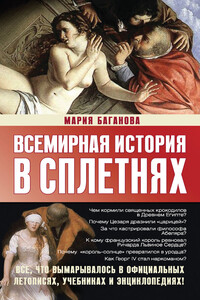– Второй директор – Энгельгардт Егор Антонович – был человеком весьма хорошо образованным. Он окончил модный пансион, и свои познания дополнял потом частными уроками латинского языка и математики. Поступил на действительную службу сержантом в Преображенский полк, находился ординарцем при князе Потемкине, затем при князе Куракине… При Павле он был назначен секретарем Мальтийского ордена. А надо сказать, Павел Петрович строго следил за исполнением всех орденских формальностей, и Энгельгардт, имея это в виду, тщательно занялся изучением всех деталей и, в свою очередь, преподал их наследнику. В одном из заседаний Павел Петрович был так поражен обширными познаниями наследника в деле, которым он в ту пору так страстно увлекался, что, обняв его, сказал: «Вижу в тебе настоящего своего сына». Этими отцовскими объятиями Александр был обязан Энгельгардту и никогда этого впоследствии не забывал.
– Мудро! – заметил я.
– Став директором, – продолжил Петель, – Егор Антонович и в свободное время не оставлял забот о вверенных ему молодых людях; он приглашал их к себе домой, твердо веруя, что домашнее обращение, разговор и привычка находиться в его семье принесут огромную пользу его питомцам, оторванным от внешнего мира.
Он ввел у себя еженедельные вечерние собрания, где воспитанники по очереди читали свои сочинения, рассуждали и делали взаимные замечания. По его инициативе устроилось общество под названием «Лицейские друзья полезного», участники которого занимались чтением своих сочинений в присутствии товарищей, профессоров и посторонних посетителей, а не только между собой. Дельвиг и Кюхельбекер были частыми посетителями вечеров Энгельгардта, директора Лицея, Пушкин очень редким; наконец, года за два до выпуска он и вовсе прекратил свои посещения, предпочитая им гулянье по саду или чтение. Это огорчало Егора Антоновича как хозяина и как воспитателя. Как-то во время рекреаций Энгельгардт подошел к нему и со свойственною всегдашнею ласкою спросил Пушкина: за что он сердится?
Юноша смутился и отвечал, что сердиться на директора не смеет, не имеет к тому причин и т. д. «Так вы не любите меня», – продолжал Энгельгардт, усаживаясь подле Пушкина – и тут же, глубоко прочувствованным голосом, без всяких упреков, высказал юному поэту всю странность его отчуждения от общества, в котором он по своим любезным качествам может занимать одно из первых мест. Пушкин слушал со вниманием, хмуря брови, меняясь в лице; наконец, заплакал и кинулся на шею Энгельгардту. «Я виноват в том, – сказал он, – что до сих пор не понимал и не умел ценить вас!..»
– О, как преподаватель, не могу не восхититься этой сценой! – поддакнул я.
Пешель охотно вспоминал Пушкина, то, как он поразил всех товарищей ранним развитием, обширным умом и в то же время раздражительностью и необузданностью.
– Ростом он был невелик, но довольно крепкий по сложению. Широкоплечий, худощавый, имел темные курчавые волосы, светло-голубые глаза, высокий лоб, смуглое небольшое лицо и толстые губы. Во всех его движениях видна была робость; он был очень неровен в обращении: то шумливо весел, то грустен, то робок, то дерзок. Также неровен был и его характер: то расшалится без удержу, то вдруг задумается и долго сидит неподвижно. Видишь его поглощенным не по летам в думы и чтение, и тут же он внезапно оставляет занятия, входит в какай-то припадок бешенства из-за каких-то пустяков: из-за того, что другой перебежал его или одним ударом уронил все кегли. Когда один из профессоров у Дельвига в классе отнимал бранное на господина инспектора сочинение, в то время Пушкин с непристойною вспыльчивостью говорил громко: «Как вы смеете брать наши бумаги, – стало быть, и письма наши из ящика будете брать». Даже его ближайший друг, Пущин, признавал, что Пушкин с самого начала пребывания в Лицее был раздражительнее всех и потому не возбуждал общей симпатии.
– Ох, боюсь, эту свою черту он так и не преодолел, – вздохнул я.
– Учился Пушкин очень небрежно и только благодаря хорошей памяти смог сдать хорошо большинство экзаменов; он не любил математики и немецкого языка. К длительной прилежной работе был неспособен. В нем было мало постоянства и твердости. Был он словоохотен, остроумен, приметно в нем было и добродушие, но в то же время вспыльчив с гневом и легкомыслен. Был умен, но плохо понимал логику, в чем сам признавался. Ум его был блистателен, но логические силлогизмы казались ему невнятными. В погоне за красным словцом часто забывал он свое место и приличествующую его положению скромность. Надо сказать, что этим качеством был он обделен. Так, однажды император Александр Первый Павлович оказал нам честь своим посещением. Ходя по классам, его императорское величество спросил: «Кто здесь первый?» «Здесь нет, ваше императорское величество, первых; все вторые», – отвечал вдруг Пушкин.