Н. И. Тургенев, член Коренной управы Союза Благоденствия, в восстании участия не принимал, но за свою роль одного из идеологов движения декабристов был приговорен к смертной казни, замененной на бессрочную каторгу. Пушкин хорошо представлял себе особое положение Н. Тургенева в Тайном обществе и написал об этом в записке «О народном воспитании»:
Мы видим, что Н. Тургенев, воспитывавшийся в Гетинг‹енском› унив‹ерситете›, не смотря на свой политический фанатизм, отличался среди буйных своих сообщников нравственностью и умеренностью — следствием просвещения и положительных познаний (XI, 45).
Создание «Записки» (ноябрь с 10-го по 15-е. — XI, 310) отделял от написания «Стансов» всего один месяц.
Пушкин имел представление не только об особой роли Н. И. Тургенева в движении декабристов, но и о том, что он как инициатор уничтожения крепостного права «сверху» был близок императору Александру[437]. Кроме того, Н. Тургенев был одним из немногих заметных деятелей александровского царствования, явно выступавших против военных поселений. По мысли друзей декабриста, прежде всего его старшего брата А. И. Тургенева, это должно было расположить к нему Николая, еще цесаревичем выступавшего против военных поселений[438].
Беспокойство за судьбу Н. Тургенева друзья стали выражать сразу же после восстания, как только причастность его к движению декабристов сделалась известной правительству. В это время и встал вопрос о том, чтобы декабрист сам по своей воле приехал в Петербург из-за границы и оправдался. На этой позиции стояли Карамзин и Жуковский. Вяземский и, конечно, А. И. Тургенев были против возвращения. Вяземский, как и Пушкин, знал об особой роли Николая Тургенева в движении в качестве идеолога, но с его точки зрения это был не плюс, а минус в глазах правительства:
Я уверен, что братья твои чужды того, что было безрассудного и злодейственного в замыслах, но все это их не спасет. Поверь мне, что люди истинно благомыслящие в этом деле страшнее и ненавистнее для них самих головорезов. О последних скажут: в них была хмель, она выдохнется. Но хладнокровные, глубокомысленные и честные заговорщики не подадут той же надежды. С ними мира не будет. Я убежден в этом и потому более страшусь за брата твоего, Николая, Орлова, чем за самых бешеных. Что ни говори, а я от него всего страшусь и ничего не надеюсь (курсив П. А. Вяземского. — И. Н.), потому что чудесам не верю ‹…› Ты окружен в Петербурге людьми qui sont sous le charme, и мне показалось, что голос мой не соблазненный может предостеречь тебя в чемнибудь и вывести на свежий воздух из атмосферы околдованной. Разумеется, Карамзин и Жуковский лучшие создания Провидения, но увы! и они под колдовством и советы их в таком случае могут быть не совершенно здравы[439].
Вяземский значительно лучше представлял себе позицию правительства, чем находившиеся в момент восстания за границей Жуковский и А. Тургенев.
Взгляд на Декабрьское восстание как на стихийный мятеж и событие, которое не может иметь большого влияния на текущее состояние дел, был выражен только в первом правительственном сообщении о нем, о чем ниже. В дальнейшем эта точка зрения ушла из официальных сообщений, где начал доминировать совсем другой взгляд на восстание, а именно: оно стало восприниматься как следствие разветвленного заговора, пронизавшего не только Россию, но и Европу. И это совершенно естественно, потому что только такой подход оправдывал размах следствия, последующих репрессий и казнь тех декабристов, которые, как Пестель и Рылеев, формально в восстании не участвовали и ничьей крови не пролили, но были идеологами. Об этом особо говорилось в правительственном «Манифесте» от 19 декабря, написанном M. М. Сперанским под давлением императора Николая:
По первому обозрению обстоятельств, следствием уже обнаруженных, два рода людей составляли сие скопище: одни заблудшие, умыслу не причастные, другие — злоумышленные их руководители[440].
Таким образом, «буйные стрельцы», вопреки пушкинскому стихотворению, понесли подчас не большее, а меньшее наказание, чем идеологи. Приговор Верховного уголовного суда в отношении Николая Тургенева подтвердил наихудшие опасения друзей и родственников. Говорили, что M. М. Сперанский плакал после того, как был вынужден его подписать




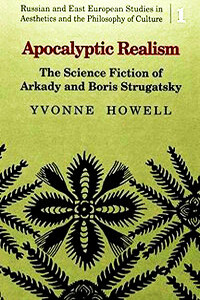
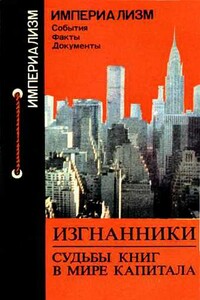
![Музыка прозы И.С. Тургенева [статья]](/build/no_cover.398201c8.jpg)