Хотя в Москве все было тихо и скромно, однако многие, и мы в том числе, были крайне озабочены и взволнованы. Известия из Петербурга получались самые странные и одно другому противоречущие ‹…› мы ожидали всякий день с юга новых Мининых и Пожарских. Мы, немецкие философы, забыли Шеллинга и комп., ездили всякий день в манеж и фехтовальную залу учиться верховой езде и фехтованию и таким образом готовились к деятельности, которую мы себе предназначили ‹…›
Мы, молодежь, менее страдали, чем волновались, и даже почти желали быть взятыми и тем стяжать и известность и мученический венец. Эти события нас, между собой знакомых, чрезвычайно сблизили и, быть может, укрепили ту дружбу, которая связывала Веневитиновых, Одоевского, Киреевского, Рожалина, Титова, Шевырева и меня[417].
Возможно, что Пушкин не вполне осознавал, что в сентябре 1826 года москвичи и «короновали» его в пику императору, чьи собственные коронационные торжества в Москве проходили кисловато:
Описать или словами передать ужас и уныние, которые овладели всеми (после казни декабристов. — И. Н.) — нет возможности: словно каждый лишался своего брата или отца. Вслед за этим известием пришло другое о назначении дня коронования Императора Николая Павловича. Его въезд в Москву, самая коронация, балы придворные, а равно балы у иностранных послов и у некоторых Московских вельможей, — все происходило под тяжким впечатлением совершившихся казней. Весьма многие остались у себя в деревнях; и принимали участие в упомянутых торжествах только люди к тому обязанные по службе. Император был чрезвычайно мрачен; вид его производил на всех отталкивающее действие; будущее являлось более, чем грустным и тревожным[418].
Характерно, что, когда Кошелев сам переехал в Петербург и стал встречать Пушкина в салоне Карамзиных, отношения двух бывших москвичей не сохранили и следа того восторга, с которым любомудры встретили поэта после его возвращения из Михайловской ссылки:
Пушкина я знал довольно коротко; встречал его часто в обществе; бывал я и у него; но мы друг к другу не чувствовали особенной симпатии[419].
Стремление молодых друзей Пушкина «стяжать известность и мученический венец» разделяли многие молодые москвичи, в основном бывшие и настоящие студенты Московского университета. Именно оттуда раздавалась самая резкая критика в адрес Пушкина[420].
Много позже описываемых событий А. И. Герцен утверждал, что
Николай ‹…› своею милостью ‹…› хотел погубить его в общественном мнении, а знаками своего расположения — покорить его[421].
Это мнение отражало представления не только самого юноши Герцена, но и того околоуниверситетского круга, к которому он тогда принадлежал. Двадцать девятого декабря 1826 года H. М. Языков пишет брату, П. М. Языкову, в Симбирск: «Пушкин в большой милости у Государя»[422]. О «милостях» императора к Пушкину без обиняков писал анонимный поэт: «Я прежде вольность проповедал, / Царей с народом звал на суд, / Но только царских щей отведал / И стал придворный люзоблюд»[423].
В Петербурге, куда Пушкин приехал в мае 1827 года, общественная ситуация была иной, чем в Москве. Главный конфидент Бенкендорфа, М. Я. фон Фок, характеризовал ее следующим образом:
Общественное настроение никогда еще не было так хорошо, как в настоящее время ‹…› нравственная сила правительства так велика, что ничто не может противустоять ей. Это до такой степени справедливо, что если бы злонамеренные вздумали теперь явиться в роли непризнанных пророков, то были бы жестоко освистаны[424].
Многие из тех, кто составил пушкинское окружение в Петербурге, в декабре 1825 года оказались буквально на краю пропасти и прямо или косвенно были привлечены к следствию. Таковы судьбы А. Дельвига, Ореста Сомова. В марте 1826 года за помощь Пушкину в осуществлении его публикаций под полицейский надзор попал Плетнев[425]. Эти люди совершенно не склонны были осуждать поэта за неосмотрительное поведение. Литература — это то, чем они зарабатывают себе на хлеб, и они напряженно ждут, как будут складываться отношения новой власти с литературой. Милости императора — пусть скорее мнимые, чем действительные по отношению к Пушкину — не только не настораживают их, но, как сообщает информированный фон Фок, «особое попечение Государя об отличном поэте Пушкине совершенно уверило литераторов, что Государь любит просвещение»




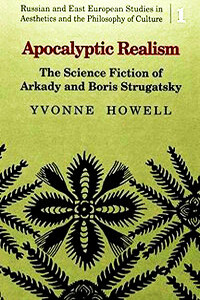
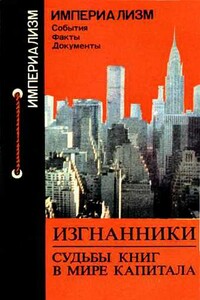
![Музыка прозы И.С. Тургенева [статья]](/build/no_cover.398201c8.jpg)