Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы;
И высились и падали цари…
(«Была пора: наш праздник молодой…», 1836 — III, 432)
Близкими Пушкину оставались осуждение крайностей в политике и этический пафос Карамзина:
Злой роялист не лучше злого якобинца. На свете есть только одна хорошая партия: друзей человечества и добра. Они в политике составляют то же, что эклектики в философии[307].
При этом само понимание крайностей в политике у Пушкина в 1821 году было совсем не таким, как у Карамзина. В глазах Карамзина политическая позиция, занятая самим Пушкиным, выглядела достаточно крайней.
Об отношении Карамзина к тираноубийству писал в «Записной книжке» П. А. Вяземский:
Карамзин говорил гораздо прежде происшествий 14-го и не применяя своих слов к России: «Честному человеку не должно подвергать себя виселице!» Это аксиома прекрасной, ясной души, исполненной веры к Провидению: но как согласите вы с нею самоотречение мучеников веры или политических мнений? В какой разряд поставите вы тогда Вильгельма Теля, Шарлотту Кордэ и других им подобных? Дело в том, чтобы определить теперь меру того, что можно и чего не должно терпеть[308].
Вяземский сделал приведенную нами запись в 1826 году, после смерти Карамзина, когда, как отметил В. Э. Вацуро,
это уже не живой, не реальный Карамзин, носитель тех или иных политических суждений — ошибочных, даже реакционных, вызывавших на споры ‹…› Имя его теперь становится для Вяземского синонимом единства «нравственности частной и государственной», которые так разительно столкнулись в реальной действительности[309].
В образах тираноубийц, выведенных Пушкиным в стихотворении «Кинжал», и произошло слияние «нравственности частной и государственной».
Н. Я. Эйдельман обратил внимание на то, что перед первым параграфом ранней редакции пушкинских «Замечаний на Анналы Тацита» стоит словосочетание [Karamzin Roma] (XII, 415). Как считает исследователь, Пушкин имел в виду стихотворение Карамзина «Тацит»[310].
Таким образом, и в конце 1810-х — начале 1820-х годов, когда личные взаимоотношения Пушкина с Карамзиным были очень напряженными[311], поэту оставался близок пафос единства «нравственности частной и государственной», который утверждал Карамзин.
С середины же 1820-х годов до последних произведений, когда Карамзин становится едва ли не самым близким Пушкину писателем (Карамзину посвящен «Борис Годунов»; слова Карамзина, процитированные Вяземским: «Il ne faut pas qu’un honnête homme mérite d’être pendu»[312], Пушкин поставил эпиграфом к программной статье 1836 года «Александр Радищев» — XII, 30), отношение Пушкина к карамзинскому принципу совмещения «нравственности частной и государственной» осложнилось.
В это время в историческом сознании Пушкина происходит определенный перелом, «взгляд на историю как на арену борьбы одних лишь свободы и тиранства, исход которой только от усилий и благородства тираноубийц и борцов-освободителей»[313], сменяется таким отношением к истории, когда критерием оценки становится не только, а может быть, и не столько нравственная чистота исторического лица, сколько общественная целесообразность его поступков.
Образ Петра Великого у Байрона и у Пушкина
Настоящая работа появилась как комментарий к небольшой пушкинской заметке о Байроне, написанной в 1827 году и опубликованной в альманахе «Северные цветы на 1828 год» в составе «Отрывков из писем, мыслей и замечаний»:
Байрон много читал и расспрашивал о России. Он, кажется, любил ее и хорошо знал ее новейшую историю. В своих поэмах он часто говорит о России, о наших обычаях. Сон Сарданапалов напоминает известную политическую карикатуру, изданную в Варшаве во время Суворовских войн. В лице Нимврода изобразил он Петра Великого. В 1813 году Байрон намеревался через Персию приехать на Кавказ (XI, 55).
«Сном Сарданапаловым» Пушкин называет сцену из 4 акта драмы Байрона «Сарданапал» (1821), в которой ассирийскому царю Сарданапалу в ночь перед решающей битвой с мятежниками являются во сне основатель Вавилона и строитель Вавилонской башни Нимврод и царица Семирамида.




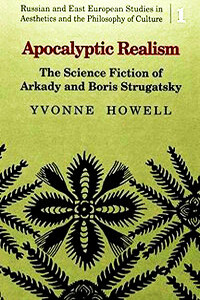
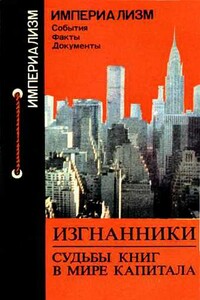
![Музыка прозы И.С. Тургенева [статья]](/build/no_cover.398201c8.jpg)