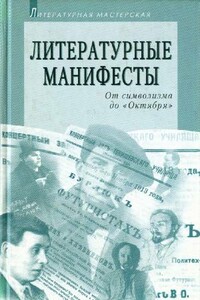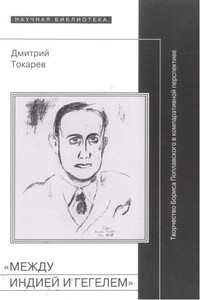Пушкин — либертен и пророк. Опыт реконструкции публичной биографии - страница 131
Символом восприятия Пушкина в послереформенную эпоху стали «женские ножки», воспетые поэтом в «Евгении Онегине»[761]. Обратившийся к теме «ножек» в пушкинском творчестве Д. И. Писарев счел интерес Пушкина «к женщине вообще или к ее ногам в особенности»[762] аргументом в пользу того, что общественные идеалы Пушкину были чужды («…Пушкин не имеет никакого понятия о том, что значит серьезный спор, влекущий к размышлению, и какое значение имеет для человека сознанное и глубоко прочувствованное убеждение»[763]). Достоевский, естественно, знал об отношении Писарева к Пушкину и к воспеванию «ножек». «Певцом женских ножек» называет Пушкина Ракитин, в недалеком будущем «прогрессивный журналист», в разговоре с Алексеем Карамазовым:
Тут влюбится человек в какую-нибудь красоту, в тело женское, или даже только в часть одну тела женского (это сладострастник может понять), то и отдаст за нее собственных детей, продаст отца и мать, Россию и отечество; будучи честен, пойдет и украдет; будучи кроток — зарежет, будучи верен — изменит. Певец женских ножек, Пушкин, ножки в стихах воспевал; другие не воспевают, а смотреть на ножки не могут без судорог. Но ведь не одни ножки… (XIV, 74).
Как видим, и Пушкин, и Федор Павлович Карамазов зачислены Ракитиным в круг «сладострастников». Многие шестидесятники имели именно такое представление о Пушкине и людях его поколения. Они отказывались видеть в Пушкине национального поэта и считали, что он представляет только свой класс, дворян. На слуху была оценка, данная Белинским: «Везде видите вы в нем человека, душою и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса; короче, везде видите русского помещика…»[764] Добролюбов полуцитировал Белинского, говоря о «генеалогических предрассудках» поэта[765].
Особое неприятие шестидесятников вызывали дуэльные истории Пушкина, поскольку дуэль, с точки зрения «новых людей», будучи и сама по себе пережитком прошлого, отражала собственническое и потребительское отношение к семье и к женщине[766], архаичный и не созвучный эпохе способ разрешения семейных конфликтов[767]. И в целом для шестидесятников Пушкин стал воплощением прошлого и воспринимался как фигура, скорее закрывающая предшествующий восемнадцатый век, чем открывающая новую эпоху[768].
Критическое осмысление пушкинского творчества «новыми людьми», как и обывательское восприятие биографии поэта в категориях анекдота и каламбура, не отменяло сложнейшей работы по осмыслению пушкинского творческого наследия, пришедшейся на послереформенную эпоху. Напряженность этого осмысления определялась тем, что достоянием читающей публики стали тексты Пушкина, весьма трудные для восприятия, в том числе незавершенные. Среди них особенно важной для Достоевского оказалась незаконченная повесть, получившая редакторское заглавие «Египетские ночи».
Писатель принял участие в полемике по поводу «Египетских ночей», посвятив этой повести Пушкина статью «Ответ „Русскому вестнику“» (1861)[769]. Поводом к ее написанию послужило высказанное редактором «Русского вестника» Катковым мнение о том, что «Египетские ночи» не являются цельным произведением, то есть не несут в себе никакого законченного смысла[770]. Идеологическим фоном статьи стала полемика о женской эмансипации. В «Ответе „Русскому вестнику“» Достоевский называет браки молодых девушек со «сладострастными и богатенькими старичками» «продажей тела» и утверждает, что «в этом случае часто виновата не бедная жертва, а ее палачи» (XIX, 126). Свое представление об эмансипации Достоевский формулирует следующим образом: «…для нас… вся эманципация сводится к христианскому человеколюбию, к просвещению себя во имя любви друг к другу, — любви, которой имеет право требовать себе и женщина» (XIX, 126).