Пушкин — либертен и пророк. Опыт реконструкции публичной биографии - страница 118
Отношение правительства к любомудрам, подозрительное в начале царствования Николая, к тридцатым годам сменилось убеждением в возможности общей работы по созданию общенациональной идеологии. Среди ближайших помощников Уварова мы видим любомудров Погодина и С. П. Шевырева. Отношение к Петру могло скорее сближать, чем разделять власть и любомудров.
С середины двадцатых годов Карамзин оказывал сильнейшее влияние на Пушкина, а в 1831 году в связи с польскими событиями взгляды Карамзина приобрели для Пушкина газетную актуальность, поскольку историческая правота Карамзина, предсказывавшего возможность новых волнений в Польше, представлялась Пушкину почти пророческой. Именно тогда в парке Царского Села, где Пушкин поселился сразу после женитьбы (совершенно как Карамзин!), произошла знаменательная встреча поэта и императора. По легенде, они встретились случайно, разговорились, и император рассказал поэту о своих планах купить в Голландии домик Петра Великого. Пушкин попросился туда на работу дворником. Император в ответ рассмеялся и предложил поэту писать историю Петра. Так Пушкин занял место императорского историографа, то есть место Карамзина.
Друзья поэта, которые подготовили назначение Пушкина, А. О. Смирнова-Россет и Жуковский[675], прекрасно понимали всю актуальность этой параллели. Вполне осознавал ее и Пушкин. Обращаясь к Бенкендорфу с официальной просьбой о получении должности историографа, Пушкин сознательно педалировал преемственность по отношению к Карамзину:
Более соответствовало бы моим занятиям и склонностям дозволение заняться историческими изысканиями в наших государственных архивах и библиотеках. Не смею и не хочу взять на себя звания историографа после незабвенного Карамзина, но могу со временем исполнить мое давнишнее желание написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III (XIV, 256).
Как отметил первый публикатор этих документов Н. А. Гастфрейнд: «Замечательна поспешность, с которою он был принят на службу: в том же июле уже состоялось высочайшее повеление. Можно подумать, что только и ждали письма Пушкина»[676].
После того как о назначении Пушкина придворным историографом стало известно, параллель Пушкин — Карамзин бросилась в глаза современникам. Так, А. Я. Булгаков 19 сентября 1831 года писал об этом брату, К. Я. Булгакову, выражая общее мнение: «Лестно для Пушкина заступить место Карамзина»[677]. Новость о назначении наложилась на известие о том, что историк Погодин уже (и по совету Пушкина) пишет о Петре трагедию в стихах. А. В. Веневитинов (в письме Е. Е. и С. В. Комаровским от 6 октября 1931 г.) рассматривает эту ситуацию как курьезную: «Я расскажу Вам кое-что, что Вас насмешит — Пушкин пишет историю Петра Великого, а Погодин написал трагедию о нем. Вы подумали бы наоборот»[678].
На что рассчитывал поэт, соглашаясь писать историю Петра? Верил ли он в возможность честного или хотя бы отчасти критического подхода к изложению обстоятельств петровского царствования? И какого подхода к изложению событий ждал от Пушкина император? Можно предположить, что сразу после своего назначения Пушкин верил в возможность честного исследования и всю вторую половину 1831 года, обсуждая будущий проект, он не скрывал от друзей своего оптимизма по этому поводу. В декабре того же 1831 года Н. М. Языков писал брату: «Пушкин только и говорит что о Петре… Он много, дескать, собрал и еще соберет новых сведений для своей истории, открыл, сообразил, осветил и проч.»[679]
Эпизод с назначением Пушкина на должность, которую до него занимал Карамзин, способствовал сближению Пушкина и императора. Впрочем, и до этого события Пушкин претендовал на особые отношения с царем — его первым, а подчас и единственным читателем. Ситуация, когда царь в ходе известного разговора 8 сентября 1826 года объявляет себя цензором Пушкина, переосмысляется в ряде пушкинских произведений, где он провозглашает себя «Б-гом избранным певцом» и «пророком». Неожиданные повороты его собственной судьбы, превратившей его в одночасье из гонимого и ссыльного — в собеседника и, как ему казалось, советчика императора, сделали его самоопределение — «пророк» — из фигуры поэтической речи в факт публичной биографии. Так, программное стихотворение этого периода «Пророк» в журнальной публикации получает дату «8 сентября», явно указывающую на дату разговора с императором.




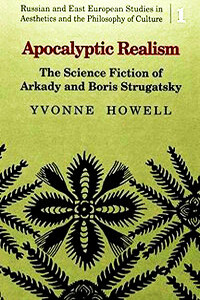
![Музыка прозы И.С. Тургенева [статья]](/build/no_cover.398201c8.jpg)
