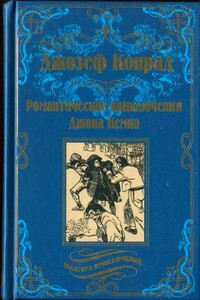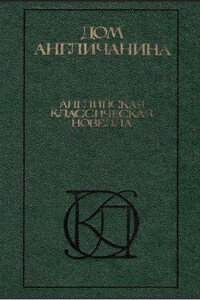Его исхудавшее тело дрожало, он был охвачен такой великой торжествующей злобой, что сама смерть, подстерегавшая его в этой хижине, как будто отступила. Призрак его безумного самолюбия поднимался над отрепьями и нищетой, словно над ужасами могилы. Не знаю, много ли он лгал тогда Джиму, лгал мне теперь, лгал себе самому. Самолюбие дьявольски подшучивает над нашей памятью, и необходимо притворство, чтобы оживить подлинную страсть. Стоя под видом нищего у врат иного мира, он давал этому миру пощечину, оплевывал его, сокрушал страшной своей злобой и возмущением, таившимися во всех его мерзостях. Этот авантюрист одолел всех мужчин, женщин, дикарей, торговцев, бродяг, миссионеров, одолел он и Джима.
Я не отнимал у него этого триумфа in artlculo mortis,[19] не лишал этой почти посмертной иллюзии, будто он растоптал всю землю. Пока он хвастался, развиваясь в отвратительной агонии, я невольно вспоминал истории, какие о нем ходили во времена его расцвета, когда в течение года судно джентльмена Брауна вертелось у островка, окаймленного зеленью, где на белом берегу виднелась черная точка — дом миссии; спустясь на берег, джентльмен Браун старался очаровать романтическую женщину, которая не могла ужиться в Меланезии. Мужу ее он казался подающим большие надежды обратиться на путь истинный. Было известно, что бедняга миссионер выражал намерение склонить «капитана Брауна к лучшей жизни».
«Спасал его во славу божию, — как выразился один кривой бродяга, — чтобы показать там, на небе, что за птица — торговый шкипер Тихого океана!»
И этот же Браун убежал с умирающей женщиной и рыдал над ее телом.
— Вел себя, словно ребенок, — не уставал повторять его помощник. — И пусть меня забьют до смерти хилые канаки, если я понимаю, в чем тут дело. Знаете ли, джентльмены, когда он доставил ее на борт, она была так плоха, что уже его не узнавала: лежала на спине в его каюте и не спускала глаз с бимса; а глаза у нее страшно блестели. Потом умерла. Должно быть, от скверной лихорадки…
Я вспомнил всю эту историю, когда, вытирая посиневшей рукой спутанную бороду, он говорил мне, корчась на своем зловонном ложе, как нащупывал больное местечко у «этого проклятого парня». Джима нельзя было запугать (он с этим соглашался), но ему открывался путь пролезть в душу Джима — в душу, «которая не стоила и двух пенсов». Ему дана была возможность «вывернуть эту душу наизнанку».
Увиденное им сбивало его с толку, ибо он не раз прерывал свой рассказ восклицаниями: «Он едва не улизнул от меня. Я не мог его раскусить. Кто он был такой?»
А затем, дико поглядев на меня, снова начинал говорить, торжествующий и насмешливый. Теперь этот разговор двух людей, разделенных речонкой, кажется мне какой-то страшной дуэлью. Нет, он не вытряхнул души Джима, но я уверен, что душа, непонятная для Брауна, обречена была вкусить всю горечь такой дуэли. Соглядатаи того мира, от которого он отказался, не оставили его и в изгнании, — белые люди из «внешнего мира», где он не считал себя достойным жить. Все это его настигло — угроза, потрясение, опасность, которая мешала его работе. Именно это печальное чувство — думается мне — горестное и покорное, окрашивавшее те немногие фразы, какие произносил Джим, сбило с толку Брауна, мешая ему разгадать стоявшего перед ним человека. Некоторые великие люди обязаны своим могуществом умению вскрывать в тех, кого они избрали своим орудием, качества, способствующие их целям; и Браун, словно он в самом деле был велик, обладал дьявольским даром нащупывать самое больное местечко у своих жертв.
Он признался мне, что Джим был не из тех, кого можно подкупить лестью, и поэтому он постарался прикинуться человеком, который, не впадая в уныние, переносит все неудачи. «Вывозить контрабандой ружья — преступление невелико!» — заявил он Джиму. Что же касается прибытия в Патюзан, то кто посмеет сказать, что он приехал сюда не за милостыней? Проклятые жители открыли по нем стрельбу с обоих берегов, не потрудившись узнать, зачем он приехал.
На этом пункте он нагло настаивал, тогда как в действительности энергичное выступление Дэна Уориса предотвратило величайшее бедствие. Браун ведь заявил мне, что, увидев такой большой поселок, он тотчас же решил начать стрельбу, как только высадится на берег, — убивать каждое живое существо, какое попадется ему на дороге, чтобы таким путем устрашить жителей. Силы были столь неравны, что то был единственный выход для достижения цели, — как доказывал он мне между приступами кашля. Но Джиму он этого не сказал. Что же касается голода и лишений, какие они перенесли, то это была правда, — достаточно было взглянуть на его банду.