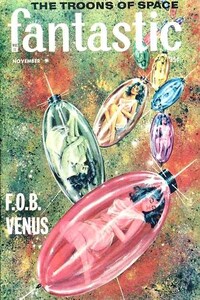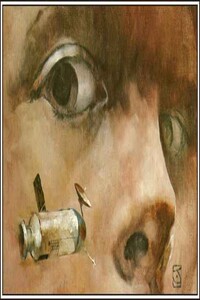– Валидола нет? – спросил он меня. Надо было поудобней устроить старика, да и увозить его скорее отсюда.
– Беда, Петруха, – пробормотал провизор, глотая таблетку, добытую мной у соседей. – Провал, полный провал.
– Вы помолчите, – попробовал я угомонить неспокойного провизора. – Вы что, второй день здесь?
– Беда, сколько людей. И какие люди, лица… загляденье. Если б ты видел… Слава… детей мало. Говорят, ухнуло сразу… без междометий.
Идти Аким почти не мог, хромал и шатался, видно все силы опустились здесь вниз, пустой на его спине болтался и аптекарский мешок с красным, измазанным глиной крестом.
– Иди Петруха, помогай рыть, я уж сам, – просипел провизор.
Это никак не совпало с моим, черствого эгоиста, планом. В полусотне метров уже готова была отчалить телега, полная разбитых и ушибленных людей.
– Стой, – завопил я погонщику. – Стой, еще один, старик. Сейчас приковыляем, довезешь до конки.
Но сволочить Акима мне удавалось плохо. Он все время дергался, съезжал набок и норовил вернуться назад.
– Эй, – крикнул я какому-то бредущему. – Эй, помоги до телеги! – тот посмотрел на меня безумными глазами. С его расцарапанных щек капала кровь.
– Мишенька, – прошептал он, – Миша, где ты? Мишенька… где… я тут… где ты?
– Хватай, мужик, – завопил я ему. Он безропотно подчинился, подставил крутливому Акиму плечо и засеменил вровень со мной. Но все продолжал бормотать.
– Миша, мальчик… где ты?
Мы скинули увертливый мешок аптекаря на подводу, и та дернулась и повлеклась, и расцарапанный, медленно отставая, все брел за нами и бормотал. На полдороге нас стал, тесня, обгонять новенький грузовой Ё-мобиль, не заметил какой модели, Твоёбиль или Моёбиль, и вдруг с его подножки спрыгнула девчонка и крикнула:
– Стой!
Я брел за телегой и ничего не замечал кругом. В моих глазах совершала медленную плясовую яма.
– Стой, – отчаянно еще раз крикнула женщина, очутившаяся прямо передо мной.. – Петр, стойте же!
– Ты? – поразился я. Антонина прижала голову к моей груди и зашептала:
– Горе. Ездим целый день… Петр, Вы как?
– А ты… почему здесь? – я провел грязной ладонью по ее сизым, с налипшими перьями и дегтем волосам.
– Ездим, – тихо сказала она. – Всех возим давно уже… в больнице нет мест. В Училище устроили триста легких. На моей постели семья. Все потеряли, Петя…
– Тебе где ночевать? – наконец понял я. – К вечеру зайду, идем ко мне.
– Нет… Нет, нет, – горячо зашептала моя мышь. – Сегодня нет, дорогой Петенька. Я к маме, давно не была. Наверное. Ночевать есть… Сегодня не могу, такое горе. Вы меня вспоминайте сегодня.
Она быстро чмокнула меня в шею и кинулась опять на подножку набирающего скорость мобиля. А я побрел догонять телегу и Акима.
В аптечной подсобке старая злобная Дора полчаса охала и суетилась возле начальника – крутила жгуты, накапывала, колола укол, обтирала старику руки и плечи с затеками ссадин и синяков.
– Михзавец, – причитала она. – Биспутный мальчик-хулиган, все сотворит сделать, чтобы старая Дора считала слезы. Садист и многолюб.
Наконец мы прогнали ведьму, и Аким в бессилии откинулся на кислородную подушку.
– Петруха, – сказал он ясно, с закрытыми глазами. – Дело швах.
– Что болит, Аким Дормидонтыч?
– Я тут при чем? – удивился аптекарь.. – Вообще швах. Эта яма… Слушай, прикрой-ка дверь, а на «Дружка» натяни вон ту оцинкованную попону.
– Это еще… зачем? Он же выключен!
– Стесняюсь немощи, – зловеще бросил наставник. – Петруха, я что-то сдал. Давайте теперь вы, молодежь. Если пожелаете. Если хочешь…
– Я не хочу, – честно признался я, – мне плевать. Я конверт вам красный нашел, – и из-под укутанного дружка был вытянут мной и предъявлен вполне сохранивший свой вид красный прямоугольник.
– Это ты… это, – заволновался старик, вяло размахивая рукой. – Это… герой. Ацеола, Крузо… Робинсон. Расскажи, я минуту подумаю.
Мой красочный, полный ломающихся прессов, латышских колющихся стрелков и старинных фолиантов рассказ, где даже меня слегка восхитили удаль, кураж и смекалка героя, Аким прослушал внимательно и молча. Он спал.
Я вскипятил кипяток и насыпал в него щепотку липовых сухих цветков. По комнатенке поплыл аромат тех июней, когда в городе еще можно было наткнуться на липу. Сложил руки на стол, голову на руки, и в сонном воображении моем поплелись, цепляясь, вольные видения.