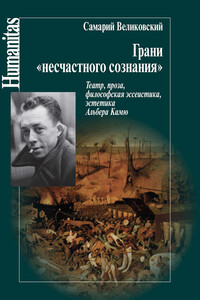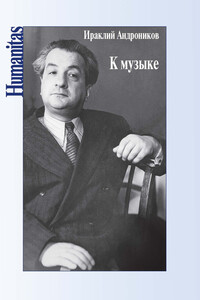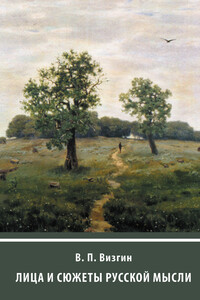Пришвин и философия - страница 15
Апология наивности, прозвучавшая в той же главе, также удостоилась крестика и подчеркивания: «Все хорошее в человеке почему-то наивно, даже величайший философ наивен в своем стремлении до чего-то додуматься»[40]. Наивный философ может преодолеть в себе соблазн безудержного обобщения, стряхнуть чары «духа абстрактности», расколдовать которые сознательно и упорно так стремился Марсель. В некотором смысле «философы жизни» и «философы-интуитивисты» и были такими наивными мыслителями, пусть сама их наивность ими подавалась, поскольку они действительно были философами, не наивно, а разумно, глубоко продуманно, как, например, у Н.О. Лосского с его «наивным реализмом», а до него у Бергсона.
Дух обобщения с его «вообще» в упор не видит лица – в природе или у человека: неважно, везде. Но «в живой творческой жизни по пути к бессмертию нет никаких “вообще” и даже у мертвых появляется лицо, и так мертвецы воскресают»[41]. Крестик и здесь зафиксировал остановку чтения вскользь: верно, здорово сказано! Завет русского мыслителя, хотел я этого или не хотел, просто читая «Незабудки», был услышан – так или иначе, рано или поздно: «Друг мой, больше, больше укрепляйся в силе родственного внимания <…> вглядывайся в каждую мелочь отдельно и различай одну от другой, узнавая личности в каждом мельчайшем даже существе, выходи из общего»! И здесь же Пришвин говорит о самом заветном, о чем мы с друзьями, увы, только платонически мечтали – о содружестве творческих личностей, сопротивляющихся механическому течению, несущему нам обезличивающие обобщения и абстракции, давно перекочевавшие из научных книг не только на улицы городов, но и внутрь нас самих, стирая лица изнутри. Социолог сказал бы, что мы мечтали тогда о «малых творческих группах», вроде «Réarmement moral» или Оксфордских групп, в которых участвовал Габриэль Марсель. Идеи, нужные всем, действительно носятся «в воздухе», не передаваемые никакими техническими средствами, никакими физически опосредованными «влияниями». Итак: «Ссорьтесь, друзья, даже и деритесь, только не делайте выводов»[42]. Стоит ли говорить, что против этого афоризма стоит увесистый крест?
«Сомнения, неудачи, несчастье, уродства – все это переносится лично, скрывается и отмирает. А утверждения, находки, удачи, победы, красота, рождение человека – это все сбегается, как ручьи, и образует силу жизнеутверждения»[43]. И поэтому человек спешит навстречу другому человеку с радостной, утверждающей жизнь вестью – вот о чем здесь говорит русский писатель. И я записываю напротив на полях: зло – сжатие, добро – расширение, зло замкнуто, добро сообщительно (с. 46).
Записи на полях «Незабудок» – свидетельство поисков. Чего? Духовной ориентации? Несомненных ценностей? Дееспособной мудрости? Собственной философии? Правды жизни? Ее смысла? Или, скорее, это просто след поисков прекрасной полной творческой цветущей жизни со всем бытием в ладу, к чему как раз и стремился Пришвин? Искания эти, помнится, проходили поначалу в полном почти тумане, скрывающем путь и призвание. Видно, мысли у меня были, как наши дачные яблоки, позднего предзимнего сорта. И падать спелыми не спешили. Созревание затягивалось. Окончив химический факультет, все время, пока был студентом, хотел оставить его ради философии. В гуманитарном знании никакого опыта почти не было. Только страсть к чтению была всеядной, всепожирающей. Но не хватало уменья отбирать важное и нужное, собирая силы для главного. Долго заниматься в замкнутом помещении просто физически не мог и проводил поэтому много времени в парках или лесу. А там, на прогулках, привык писать стихи, встречать набегавшие мысли и порой записывать их, но изучать что-то научно-философское, вроде немецкого трактата, на ходу было невозможно, а именно это почитал тогда самым важным для себя. К тому же наше поколение поднималось со дна такой глубокой культурной ямы, которую новым поколениям просто невозможно себе представить. Отсюда и такое медленное духовное и интеллектуальное взросление. Кстати, и Пришвин называл себя «самой поздней душой из всех» ему «известных»