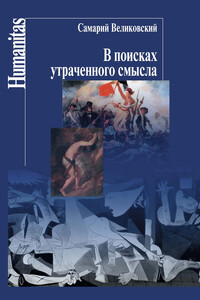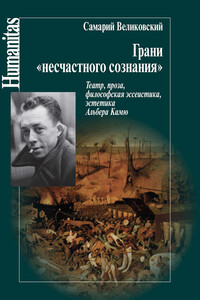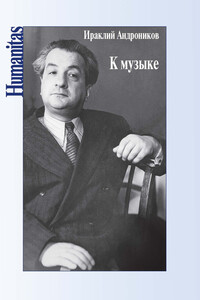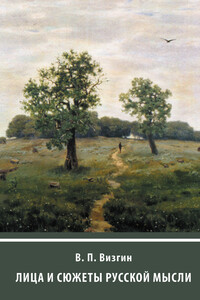Пришвин и философия - страница 17
«Когда после неудачи приходит радость, то кажется всегда, что эта радость нашлась не только для себя, а годится для всех. Радостный счастливый человек бьет в барабан»[47], – записывает Пришвин. Его «барабан» – не гейновский барабан революции[48], а, скорее, гейзенберговская скрипочка для ищущей души, преодолевающей в мытарствах свое одиночество[49].
В те годы мы увлекались Альбертом Швейцером. Мне он особенно пришелся по душе. Я вчитывался в его африканский дневник («Письма из Ламбарене»), изучал философские работы. Читая пришвинские «Незабудки», сравнивал этих мыслителей, отмечая сходство их настроений, даже – миропониманий. У Швейцера его вера называлась «благоговением перед жизнью». Пришвин не меньше, чем западный гуманист, был рыцарем космической жизни, перетекающей через плотину конечного времени, отпущенного каждому живущему, осознавал себя творческим посланником космической гармонии в мире людей. Но в последующие годы к Пришвину я возвращался чаще, чем к Швейцеру. Секрет этого очевиден: пришвинская Дриандия, невидимый град Китеж его мечты перекликались с софийными впечатлениями в затерянной в лесах валдайской деревне. Кроме того, «черноземно» богатый, меткий русский язык не мог не привлекать. Всего этого просто не могло быть в случае со Швейцером. Встречая с радостью книги западноевропейского гуманиста, я понимал их автора, вникал в его мысль, действуя при этом разумом, прибегая к накопленным знаниям о европейской цивилизации. В случае же Пришвина я был у себя дома. И не мог этого не чувствовать, хотя ясно осознать тогда и не мог.
Сейчас, читая его полностью изданные дневники, я размышляю не столько над его мыслями, как это было в молодые годы, когда читались «Незабудки», сколько воспринимаю его как человека – цельного, сильного, мужественного и мудрого. В молодости же такого восприятия не было. Глаза души застили философские «проблемы», «пунктики» и «заморочки». Вот и замечал в «Незабудках» то Гегеля, то еще какого-то философа. А простого, одаренного, смелого человека, умеющего многое и делающего все самостоятельно, я не замечал. Говоря языком Марселя, я был под чарами «духа абстрактности», освобождение от которого заняло у меня значительную часть зрелых лет. Но, видимо, действительно «нельзя к концу не впасть, как в ересь, в неслыханную простоту».
Процитированный только что Пастернак, кстати, также оказался связанным с Пришвиным. В феврале 1965 г. исполнялось 75 лет со дня рождения поэта. Мы его боготворили, как и Марину Цветаеву. Мы – это я с моим другом и наши общие друзья, образовавшие в те годы, как я однажды выразился, кружок ищущих поэтического просвещения. Было решено отметить эту дату поэтическим вечером, посвященным Пастернаку. Мой друг был аспирантом химического факультета, на котором мы вместе учились, и поэтому решили организовать вечер там. Как его организаторы мы ходили по домам московской литературной интеллигенции и приглашали некоторых ее представителей принять участие в вечере. Позвали и Валерию Дмитриевну Пришвину. Жила она в писательском доме в Лаврушинском переулке, квартиру в котором писатель получил от Союза писателей в 1937 г. после долгих ее «пробиваний». Получив ордер, он в том же году въехал туда уже один, без семьи, оставшейся в Загорске.
Квартира в Лаврушинском была наверху, кажется, на пятом или шестом этаже. В «Дневниках» Пришвин рассказывает, что видел из ее окон Воробьевы горы. Теперь такое невозможно. Валерия Дмитриевна охотно согласилась принять участие в вечере. Мне она хорошо запомнилась. Вечер проходил в большой химической аудитории. Она сидела справа, если смотреть снизу, ряду на третьем-четвертом. Ее доброе, сердечное, такое своеобразное и запоминающееся лицо казалось сосредоточенным в ее глазах. С тех пор ее светлый образ не оставляет меня. И вся она предстала скромной, внутренне очень собранной. В ней чувствовалась не только богатая и много пережившая душа, но и глубокая внутренняя духовная жизнь. Она выступала с воспоминаниями о Пастернаке. О чем именно она тогда говорила, я уже и не помню. Но говорила просто, ясно, не впадая в преувеличения. Вечер, посвященный опальному поэту, схватившемуся незадолго до своей смерти с властью, был тогда событием. Синявский, написавший предисловие к сборнику поэта в большой серии «Библиотеки поэта», оказался в эти дни в мордовском лагере. Мы ему звонили, но не могли найти. Вступительное слово на вечере произнес Озеров.