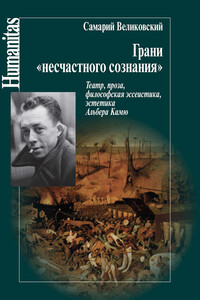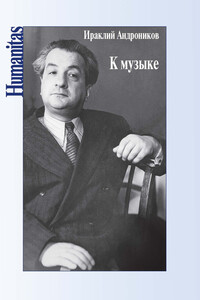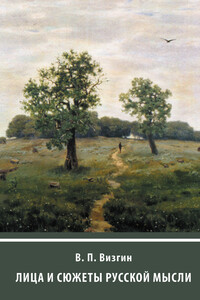Пришвин и философия - страница 16
Вот, например, еще такая запись на полях главы «Поэзия прозы»: Поэтическое слово – это непосредственность чувства прекрасного; в ком воля к прекрасному занимает главенствующее положение в его жизненном движении, тот – художник. Человек, когда он не может радоваться, жалок, и он сам это ощущает с первой каплей радости (с. 148). Некоторые главные и кажущиеся простыми по смыслу утверждения Пришвина, воспринимаемые сейчас как очевидные утверждения самой жизни, пролетали мимо меня. Я замечал только их внешнюю форму, обращая внимание, скорее, на слова, чем на суть, которая мне была еще недоступна. Вот, скажем, речь идет у Пришвина о времени и вечности. Что может быть серьезнее, глубже и значительнее этой темы для нас, смертных? А я записываю: Если будешь со-вечным, то будешь и со-временным, ибо вечность есть во всяком времени (с.130). О том, как самому и на самом деле, а не только в ловких и кажущихся красивыми словах преодолеть забвение и время с его угрозой разрушить жизнь, я и не думал – еще не дорос, слишком молод был, и «жареный петух» еще далек от меня. Вот и играю словами и в слова! Или, например, делаю такую запись: Сказка – сказитель – сказить – исказить. Сказать значит непременно исказить, изменить действительность. Вот в чем природа слова: исказить в сказе-слове значит перевоплотить мир в человеческом духе (с.141). Опять самое главное не замечается. А оно в том, что «легенда» (греческую этимологию этого слова нужно иметь в виду), по Пришвину, это «связь распавшихся времен», ею человек одолевает неумолимое время как синоним смерти: «Все хорошее, – говорит он, – должно в человеке оставаться даже после смерти для пользования всех под охраной живых»[45]. Но молодости трудно (да и нужно ли?) думать по-настоящему о смерти: молодость живет сегодняшним днем, трепещет от сиюминутности впечатлений, от текущего мига, и устремлена в предвосхищение будущего, которое не может не быть не застлано пеленой.
Пришвинская тема детства воспринималась поверхностно. Ведь сам я тогда еще не стал ни отцом, ни тем более дедом. Вот и пишу на полях такой внешним, этимологическим, образом организованный ряд слов: Детство – девство – дева – дивчина – удивление. «Девство» означает еще и нетронутость в смысле цельности: говорим же мы о девственной природе. Если речь идет о природе, то никак не пройти мимо ее девственности, мимо того, что в ней живет цельно живущий ребенок, дитя, что у природы, пусть она и любит скрываться (Гераклит), по-детски открытая душа. Она потому и источник удивлений, ибо сама – диво, чудо. Я, конечно, что-то улавливал во всем этом и по-настоящему воспринимал. Но мне было важно связать понятия, выстроить схему: ребенок – удивление – природа. Я читал Пришвина не только как живой человек, ищущий настоящей мудрости жить и одолевающий с ее помощью реальные, а не вербальные задачи. Я читал «Незабудки» и как начинающий философ гегелевской школы, считающий самым важным в философии убедительные связи абстракций. Но у Пришвина самое главное – «быть живым, живым и только, живым и только до конца». И живым перескочить и через самый свой конец.
Пришвинская связь детства, сказки и творчества с землей и солнцем воспринималась мной как осуждение городской машинной цивилизации, уничтожающей истоки сказки, а значит, детства и творчества в душах людей. Благодаря сохранности внутреннего детства как способности удивления человек оказывается способным к творчеству и тем самым к тому, чтобы быть полноценной личностью. «Сказка – это выход из трагедии»[46]. Кстати, пришвинская «сказка» похожа на то, что Марсель называл «надеждой» (l`espérance).
Размышляя о забвении, Пришвин говорит, что забыть значит расчистить путь бытию. Чтобы новым зеленым листикам «быть, надо забыть» прошлогоднюю листву. Здесь для меня открывается такая мысль: забвение как