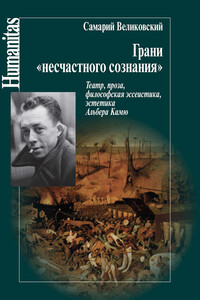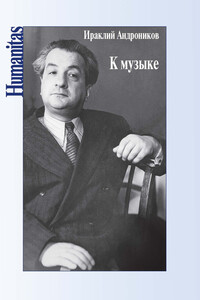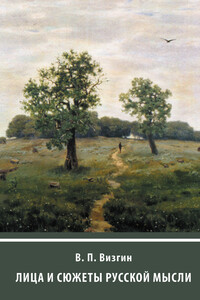Пришвин и философия - страница 14
Реакцией на боль выступают не только стихи как лирическая волна какого-то ритмического транса. Нет, из боли рождается и мысль: «Где была ранка, – говорит Пришвин, – вырастает мысль»[35]. Хочется спросить у самого себя: писание стихов не оттесняло ли требование мысли и действия? Быть может, отчасти так и было. Но нельзя противопоставлять одно другому: поэзия училась быть мыслящей. А мысли не было зазорно чувствовать в себе поэтическую силу. И в этом Пришвин мог быть и был только поддержкой.
Чисто головных мыслей русский мыслитель не выносил. Его мысль не уходит от чувства, не порывает с ним: «Раз чувство мысли показалось, то и сама мысль рано ли, поздно ли, непременно придет»[36]. Жирным крестиком читательского согласия эта запись из дневника 1945 г. отмечена на полях «Незабудок». При всей своей мечтательности и созерцательности Пришвин был умелым в повседневной практической жизни человеком, продуманно организовывающим свою жизнь по требованиям своего призвания. Вот, например, и «родственное внимание» как основу творческого акта он стремился расходовать результативно.
Важное для мысли Пришвина различие между индивидуальностью и личностью не осталось незамеченным тогдашним читателем «Незабудок». «Индивидуализм есть подчеркнутая слабость», – записывает Пришвин[37]. Эта мысль, которую в дневниках он варьирует на разные лады, помечена карандашом: знак читательского согласия с автором. А сущность личности, по Пришвину, в «знании общего дела», в то время как «просто индивидуум знает только себя». Эти слова писателя были подчеркнуты мной. Здесь важно обратить внимание на то, что, прочитывая мысли Пришвина о личности, подчеркивая и выделяя их, тем не менее философским персоналистом я тогда не был и им не стал. Для понимания метафизической глубины и высоты персоналистической онтологии требовался серьезный духовный опыт, час которого тогда еще не пришел. Для формирования собственного философского мировоззрения мало чтения книг философов, мало знакомства с мыслями других людей. Для этого необходимо, чтобы открылся внутренний личный источник мысли. Нужны искания, испытания, даже заблуждения и духовные кризисы. «…В срок яблоко спадает спелое», спадает само, если созрело. Так и формирующие наш дух, нашу личность мысли.
Глава «О живой и мертвой воде» была отмечена только крестиками «родственного внимания», означающими согласие и интерес для продумывания. Две мировые силы видит автор «Незабудок»: силу сходства, осознаваемого как законы, и силу различия, осознаваемого как личности. Здесь он открывает трагедию обобщающего ума, пропускающего мимо себя «жизненные единицы», живые лица. У любого принципа, говорит Пришвин, «нет лица и внимания к лицам». И он создает компактную мифологически окрашенную философему о грехе обобщающего ума («Каин убил Авеля, конечно, принципиально»). «Истоки науки, искусства, – говорит Пришвин, – персональны», но сила обобщения, развиваемая в них, ставит их по ту сторону добра и зла. Напротив этой мысли стоит карандашная «галка». Вот выписываю мысли Пришвина и смотрю в лупу на свои каракули почти полувековой давности и думаю: а ведь со всем этим я и сегодня согласен! И не то чтобы я «взял» эти мысли «напрокат» у русского мыслителя, а просто своим долгим опытом к ним пришел. Правда, с ними я был уже знаком, но ведь когда читал «Незабудки», то просто читал книгу, как обычно читают люди, а не выстраивал свое мировоззрение в свете читаемого и ничего не писал о подобных сюжетах, если не считать коротеньких маргиналий.
Вот еще один поворот упомянутой выше драмы сил-понятий, понятия сходства и понятия различия (раз-личия): сила обобщения образуется «путем уничтожения, убийства случайного»[38]. Понятие «случая», или «казуса» близко к понятию «примера», но не в значении пассивной иллюстрации обобщения, а в смысле познавательно продуктивного резервуара опыта. В склонности к приведению и, главное, исследованию таких «примеров» при работе мысли, над чем привыкли издеваться гегельянцы, сквозит та же самая нота. А манера такого философа, казалось бы, на первый взгляд, далекого от Пришвина, как Габриэль Марсель, непредставима без постоянного обращения к таким «примерам». Они у него выступают как точки лично пережитого опыта, как опорные пункты феноменологического исследования проблемы. Поэтому не случайно с Марселем у меня получился такой неожиданный резонанс. Этот резонанс, пусть и не во всей своей «массе», был только эхом более изначального резонанса, сродства с русским мыслителем, известным в то далекое время почти исключительно только в качестве писателя и натуралиста