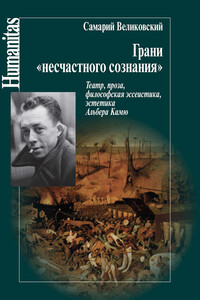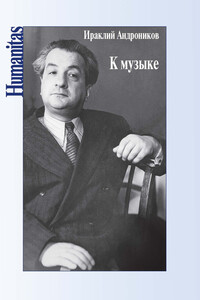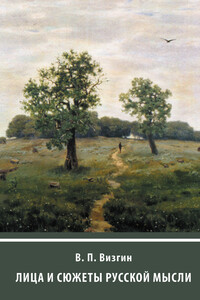Пришвин и философия - страница 13
Понимать – обнимать: пойма (с. 218). Исследование соединения в любви «физического касания» и «духовного понимания» Пришвин, как это ему свойственно, разворачивает на природной модели. Здесь ему таковой служит пойма. Он много раз наблюдает жизнь поймы и медитирует над этим явлением природы. Весной, «на разливе», вода понимает-обнимает землю «и от этого остается пойма» – поясняет свою мысль Пришвин. А когда вода спадает, то оставшийся ил делает ее исключительно плодородной, и она тогда покрывается чудесными цветами. Писатель в водах природы видит отражение человеческой жизни: понять-обнять свое другое и расцвести цветами жизни и цветами духовного творчества в своих детях – плотских и духовных.
«Дети как пойменный цветник», – написал я на полях его записи от 20 марта 1952 г., включенной в слегка отредактированной В.Д. Пришвиной форме в «Незабудки»[30]. Вот эта запись из дневников последних лет, вошедшая в зеленый шеститомник: «В любви, – пишет он, – все оттенки понимания, начиная от физического касания, подобного тому, как понимает весной на разливе вода землю, и от этого остается пойма». Меткая оговорка: вместо «обнимает» он говорит «понимает», и тем самым читательская мысль пошла по корням события. Разлившаяся вода понимает-обнимает землю, питает ее и оплодотворяет. И поэтому, когда залитой водой луг прогреется солнцем, тогда в пойме, в этой, как говорит писатель, «быстро понятой водой земле», возникнет прекрасный нерукотворный цветник! «Вот мы и видим ежегодно в природе, как в зеркале, – заключает Пришвин, – наш собственный человеческий путь понимания, единомыслия и возрождения».
Писатель обращает порой внимание на то, что в некоторых местностях говорят не «пойма», а «поймо», отсылая к близости этого элемента природного ландшафта к озеру (слово среднего рода). Слово это к тому же несет и лингвистический потенциал понимания самого «понимания» («поять», понять, обнять и т. д.). Пришвину важно обозначить стратегическую линию своей мысли: плоть свята, тело духовно, нет рокового разрыва между материей и духом, природой и человеком, мужчиной и женщиной, небом и землей. Все это действительно так, утверждает писатель, если пришла любовь, если она достигнута и укоренена. В этой же главе («Понимание») есть такая фраза, записанная после чтения «Ромео и Джульетты» Шекспира: «Единство любви плотской и духовной (любовь одна)». Главная аксиома философского мировоззрения Пришвина: «Из одного источника происходят дети наши кровные и дети нашего сознания»[31]. Любовь – путь к единомыслию и «единотелесию»[32], к единству этих единств. И это единство единств есть жизнь жизни. Философия любви есть и философия жизни.
Онтологическим условием понимания, хочется мне пофантазировать, является «андрогинность» бытия. В чем она? В том, что женщина, говорит Пришвин, «не только отдается», но и «действует»[33], участвуя не только «в физическом рождении», но «и в поэтических явлениях»[34], то есть во всех возможных явлениях творчества. На какой-то предельно глубокой глубине или предельно высокой высоте творящее бытие едино. Философия любви и философия жизни объединены у Пришвина в философию творчества.
Одна из пришвинских тем была мне тогда, в молодые годы, особенно близка. Это – терапевтическое действие поэзии, творчества вообще: стихотворение лечит раны души! Упущенное, утраченное, потерянное – все это может быть восстановлено или компенсировано творчеством. Привычка к подобному самолечению возникла еще в школе, и теперь на валдайских взгорках под соснами вошла в силу. Как и таблетки врачей, терапия эта не без вреда. Были встречи, разлуки с их горечью – им воздавалась память в стихах и, казалось, от этого становилось легче. Но для духовно неокрепшей сочиняющей души опасна гордость своими «творениями», которая, возможно, подспудно и имела место. Но главное было не столько в этой незаконной, фальшивой гордости, сколько в постоянной работе с впечатлением и словом, памятью и разумом. Отсюда и такая незабудкинская маргиналия: