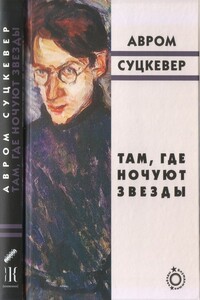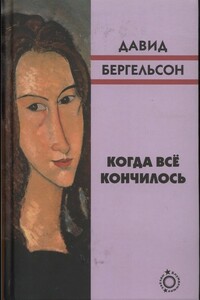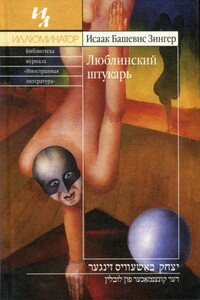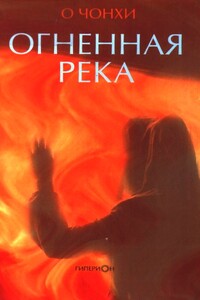— Мамуся, зачем полицейский приходил? Где папа? Он в тюрьме, да?
— Нет, мой хороший, пока не в тюрьме.
— А что он сделал? Украл что-то?
— Нет, милый, не украл.
— А что тогда? Почему он домой не приходит? Он никогда не придет, он купил себе другую мамусю?
Мирьям-Либа была поражена. Какой же Владзя умный! Своей детской головкой он понял все. Неужели она думала его убить? Боже упаси! Она отведет его к соседке и покончит с собой. Кто-нибудь о нем позаботится. В приют отдадут или еще куда-нибудь. А может, его возьмет Фелиция? Он ее родной племянник, она не может забеременеть. Отвести его к ней прямо сейчас? Мирьям-Либа больше не могла сидеть дома. Она одела сына.
— К тете Фелиции пойдем…
У Владзи горло еще побаливало, но жар прошел. Мирьям-Либа заткнула ему уши клочками ваты, повязала на шею теплый платок, чтобы рот и нос тоже были закрыты, и велела не болтать на улице. Потом нарядилась перед зеркалом. Не идти же к Фелиции, как оборванка. В Париже Мирьям-Либа приучилась подкрашивать волосы, следить за ногтями и пользоваться духами и пудрой. В пальто с меховым воротником, в муфте, которую подарила ей Юстина Малевская, в перчатках и туфлях на высоком каблуке Мирьям-Либа смотрелась, как урожденная графиня. В ее лице была аристократическая бледность, в глазах — французская дерзость, которой не встретишь в здешних местах. Неужели убить себя — единственный выход? Если бы она еще не была беременна… Она шла с Владзей по улице, и на нее засматривались и мужчины, и женщины. Мимо проезжали сани, и извозчики удивлялись, почему такая благородная пани в мороз, с ребенком идет пешком. Да, так уж вышло: она, Мирьям-Либа, — графиня Ямпольская, а ее сын — граф Владислав Ямпольский, при том что Фелиция и Хелена потеряли титул.
Уже вечерело, когда Мирьям-Либа постучалась в дверь доктора Завадского. Горничная открыла и кинулась докладывать хозяйке. Фелиция вышла в коридор — бледная, с красными после бессонной ночи глазами.
— Мариша! Владзя!
Она схватила ребенка на руки и расцеловала, потом помогла Мирьям-Либе его раздеть. Мирьям-Либа сняла пальто и шляпу. Фелиция вопросительно посмотрела на гостью.
— Значит, ты все знаешь?
— А ты?
— Со вчерашнего дня. Всю ночь глаз не сомкнула. Да проходи же! Господи, что с ним творится? Марьян все газеты объездил. Еле упросил, чтобы не печатали в новостях. Он с ума сошел, ему в сумасшедший дом пора. Всех нас погубит! Он гордый, в смысле, Марьян, а тут пришлось газетным писакам кланяться. Этот Люциан — проклятие, наказание нам за грехи. Хорошо, что мама не дожила…
Фелиция всхлипнула.
Тут Владзя попросился на горшок, а потом заявил, что хочет есть. Им занялись горничная и кухарка, Фелиция и Мирьям-Либа пошли в будуар.
— Что же делать? Так и так уже вся Варшава знает. С ним-то давно все ясно, но ведь могут заодно и Марьяна посадить. Русским только дай повод нас унизить. Мы пропали, понимаешь? Только одно остается…
— Что? — спросила Мирьям-Либа.
— Чтобы он опять за границу уехал. Оттуда хотя бы другим вредить не будет. Почему он так быстро вернулся? Это евреи виноваты, Валленберги. Зачем они влезли не в свое дело? Ты меня прости, Мариша, но еврей обязательно делает либо добро, либо зло, а просто оставить человека в покое — на это они неспособны. Прости меня, Господи, за такие слова, но уж очень это наглая раса. Ты-то совсем не такая, ты не вмешиваешься, куда не просят.
— Мой отец тоже не вмешивается.
— Одна ласточка весны не делает. Где он сейчас прячется? Деньги-то хоть есть у него? Позавчера дала ему десять рублей. Приходил сюда с этой девчонкой.
— К тебе домой?
— Ну да.
И Фелиция принялась со всеми подробностями рассказывать о визите Люциана. Мирьям-Либа молча слушала. Как ни странно, трагедия пробудила в ней лишь любопытство и чувство вины. «Неужели я больше его не люблю? Почему я не ревную?» — спрашивала себя Мирьям-Либа. Мысли о самоубийстве — это не всерьез. Ей хватит сил выстоять перед новыми испытаниями: нуждой, одиночеством, родовыми муками, унижениями. Пока Фелиция рассказывала, сморкаясь и вытирая глаза, в Мирьям-Либе росло желание посмотреть на эту Касю, поговорить с ней. И еще ей захотелось снова быть с Люцианом. Пусть он раскается, и она все простит… Да что там, она уже все простила. Почему — этого она и сама не понимала.