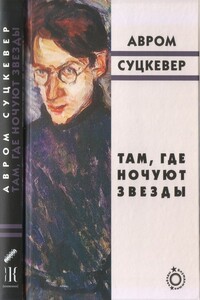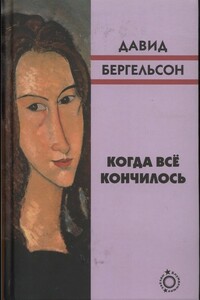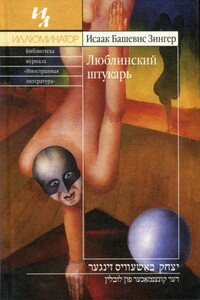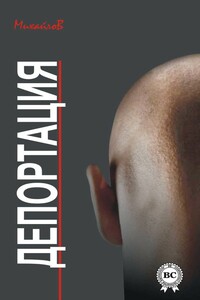Мирьям-Либа пошла на кухню растопить печку. Взяла охапку дров, тесаком наколола лучины. Полила дрова керосином из банки, чтобы быстрей разгорелись. Когда огонь запылал, высыпала в печку дешевого угля из ведра. Печка дымила, кухня пропиталась запахом копоти. Каждый порыв ветра загоняет дым обратно в трубу. Мирьям-Либа не раз говорила об этом хозяину, тот обещал все исправить. Но домовладельцы никогда не держат слова. У них одна забота — вовремя получить с жильцов плату. Дворник уверял, что нужно лишь почистить трубу, и печь перестанет дымить, но трубочист не показывается. Мирьям-Либа прикрыла дверь в комнату, где спал Владзя. Вдруг закашлялась. Еще бы, ведь легкие полны сажи, и постоянный холод в квартире. Мирьям-Либа открыла шкаф. Что бы сегодня приготовить? Осталось несколько картофелин, горстка риса и немного сушеных грибов, но масло и молоко закончились. На подоконнике лежал завернутый в бумагу шмат свиного сала. До того как приступать к готовке, надо помыть посуду. Вчера вечером Мирьям-Либа была такой усталой, что не оттерла горшки. Она выдернула из матраца клок соломы и золой принялась оттирать застывший жир. Пучок соломы так шуршал, что у Мирьям-Либы пробегал холодок по спине. «А ведь Владзя прав, — думала Мирьям-Либа. — Зря уехали из Франции. Лучше там быть бедным, чем здесь!..»
Да, она сделала глупость. Нетрудно было предвидеть, что Люциан нигде долго не продержится. Когда они приехали в Польшу, Валленберги приняли их, как родных. Оплатили им жилье на полгода вперед, привезли мебель, книги, надарили Мирьям-Либе одежды. Люциана тоже приодели, как настоящего графа, Валленберг взял его на легкую работу — мастером на строительстве железной дороги с жалованьем восемнадцать рублей в неделю. Со временем Люциан мог бы подняться до инспектора или даже выше, но в первую же неделю он с кем-то разругался, потом поссорился с самим Валленбергом и назвал его вонючим жидом. Валленберг повел себя благородно: сказал, что ему достаточно извинения и обещания, что Люциан будет добросовестно работать и бросит пить. Пан Валленберг поступил как истинный христианин, но Люциан на все плюнул и ушел от своего благодетеля. Теперь целыми днями болтается по улицам. Пани Валевская нанесла Мирьям-Либе визит и положила на стол пятнадцать рублей, иначе в доме давно не было бы куска хлеба. Но от этих денег тоже почти ничего не осталось.
— А что с него взять? — бормотала Мирьям-Либа. — Идиот! Хам! Сумасшедший, подонок чертов — вот он кто!
Ни с того ни с сего ей стало весело. Мирьям-Либа начала напевать французскую песенку. Ничего, где наша не пропадала. Пусть только Владзя немного подрастет, пойдет в школу… Она, Мирьям-Либа, найдет место бонны или выучится парикмахерскому искусству, как Миреле… Она ведь еще молода, зимой только двадцать два будет!.. Вдруг Мирьям-Либа замерла. Какое сегодня число? Кажется, у нее задержка. Господи, неужели она беременна?
Вернувшись в Варшаву, Люциан тотчас же бросился на поиски Каси, но найти ее оказалось нелегко. Стаховой уже не было в живых. Соседи сказали, что Касю забрал Антек, ее отец, но одни говорили, что он живет в Воле, другие — что в Охоте, до третьих дошли слухи, что Антек с дочерью вообще уехал из города. Люциану некогда было заниматься поисками, потому что он получил место у Валленберга и целыми неделями был в разъездах: ему надлежало наблюдать, как идет подготовка к прокладке рельсов. Но у него в голове не укладывалось, что он приехал в Варшаву и не может найти Касю, о которой думал много лет. Любил ли он ее? Да, но это необычная любовь. Когда он жил с ее матерью, она была ребенком, да и сейчас ей всего лет пятнадцать. Но ее рабская преданность и вера в него напоминали Люциану о давних временах, когда славяне поклонялись идолам, приносили жертвы Бабе Яге, имели рабов и наложниц. В фантазиях он часто представлял себя пашой, магараджей или древним правителем, который обладает правом первой ночи: он отец своих подданных в прямом и переносном смысле. Во время восстания польская пресса восхваляла борьбу Линкольна за отмену рабства в Америке, но Люциан в душе был на стороне Конфедерации. Освобождение крестьян его возмутило. В парижских кафе, встречаясь с польскими эмигрантами, он твердил, что для простонародья свобода — это яд. Чернь должна служить, а женщина счастлива только тогда, когда у нее есть господин. Движение суфражисток, которое в Польше шло рука об руку с позитивистскими идеями, Люциан воспринимал как признак национального вырождения.