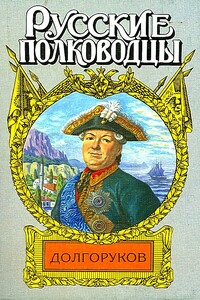Татары погнали лошадей назад, к Очакову. За ними мчались русские, на ходу стреляя в согнутые спины неприятелей, рубя сплеча отставших и раненых. Гусарские и драгунские эскадроны стремились соединить концы своего полумесяца, чтобы окружить отступающую конницу и покончить с ней. Однако татары успели выскользнуть из кольца.
Потеряв в коротком бою две тысячи убитыми, Каплан-Гирей вернулся в Очаков. А вот его обозу удалось проскочить в Кинбурн.
Генерал-поручику Бергу, как и Прозоровскому, тоже сопутствовала удача.
Едва он узнал, что калга Ислям-Гирей с пятью тысячами воинов вышел из Перекопа, послал в погоню всю свою кавалерию под командованием генерал-майора Авраама Романиуса Тот быстро нагнал татар и на рассвете атаковал.
Обременённые огромными табунами лошадей, волов, сотнями повозок, которых вели для ханского обоза и свиты, татары не смогли организовать какое-либо сопротивление — гибли десятками под острыми саблями и меткими пулями русских. Оставив почти половину отряда в степи на поживу воронам, калга увёл уцелевших в Ор-Капу.
Русские ещё долго сгоняли в табуны рассыпавшихся повсюду лошадей. А когда подсчитали трофеи, Романиус не поверил:
— Двенадцать тысяч?.. Ну и ну... Вот так Божий подарок!
— Ещё, ваше превосходительство, двести пятьдесят волов и верблюдов и полтысячи повозок, — доложил обер-квартирмейстер Дьячков.
Обозлённый такими потерями, Ислям-Гирей попытался отбить табуны и обоз, когда русские возвращались мимо Перекопа к Молочным Водам. Но казачьи дозоры вовремя заметили неприятельскую конницу. Романиус быстро выдвинул вперёд несколько пушек, которые скорым и дружным огнём отбили атаку...
Выслушав доклад генерала, Берг расцеловал его, долго и пылко нахваливал, но в рапорте Панину не забыл упомянуть и себя.
* * *
Август 1770 г.
После успешных летних сражений Румянцева и отторжения Паниным ногайских орд, после катастрофического разгрома российской эскадрой под командованием генерал-аншефа графа Алексея Григорьевича Орлова турецкого флота в Чесменской бухте[13] военное и политическое положение Порты, по мнению Екатерины, стало таким критическим, что пора было прощупать настроение турок: не пойдут ли они на мирные переговоры? В конце августа императрица в очередной раз встретилась с Никитой Ивановичем Паниным. Говорила она неторопливо, с отступлениями, но строго придерживаясь главной мысли.
— Теперь, когда славным оружием нашей армии повсюду поражаются сила и защита Оттоманской империи, когда наша победоносная армия простёрла свои завоевания до самых берегов Дуная и находится в полной готовности не токмо к ограждению покорённых уже российскому скипетру изобильных провинций, но и перенесению самого театра войны на турецкий берег, когда татарские орды, ощутив над собой тягость нашего оружия, испытав разорение и жертвование своего бытия, пришли в поколебание и прибегли под наше покровительство, я охотно изволю предпочесть скорое и совершенное прекращение народных бедствий и пролития невинной крови новым успехам моего оружия... Не пора ли, граф, подумать о мире?.. И военных успехов, и славы мы имеем достаточно. А о прочей пользе можно позаботиться при подписании мирного трактата.
— Мир — хорошая вещь, ваше величество. Но о нём следует думать, когда не токмо успехи, но и выгоды грядут впечатляющие и обильные, — уклончиво ответил Панин. — Победы графа Румянцева, графа Орлова и скорое взятие Бендер графом Петром Ивановичем говорят о великой силе армий и флота вашего величества. А это в будущем может принести ещё более весомые победы и выгоды.
— Вы считаете, что заводить разговор о мире рано?
Панин ушёл от ответа на прямой вопрос Екатерины, сказал озабоченно:
— Мира должна просить поражаемая держава, а не первенствующая.
— А мне, напротив, в этом жесте видится благородство, достойное победителя.
— Именно поэтому Порта не пойдёт на мир!
— Почему?
— Сие означает, что султан должен признать себя поражённым. А он этого не сделает.
— Но в письме, что мы отправим, можно сделать реверанс в сторону Порты и выставить её не врагом, объявившим войну России, а несчастной жертвой коварных происков Франции... Мустафе надобно дать понять, будто мы считаем, что настоящая война возымела себе начало не от собственного желания Порты или же признания в ней нужды султаном, но от постороннего и ненавистного зова злобствующих держав, кои разнообразными происками лести и коварства помрачили добрую веру Порты. Имён, разумеется, никаких называть не станем.