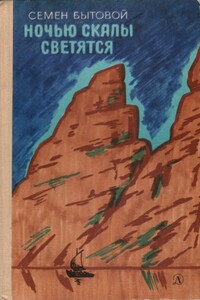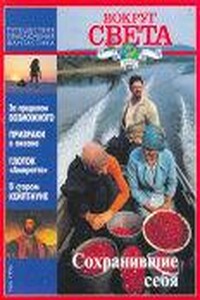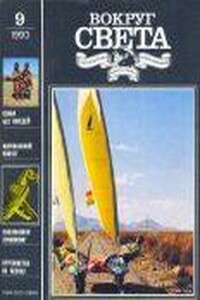— Шкурки готовите к осени? — спрашивает Николай Павлович Елену Алексеевну.
— Конечно, будем унты шить, — отвечает Елена Алексеевна, лучшая из мастериц по шитью меховой национальной обуви.
Старики и старухи, живущие в этом доме, не хотят сидеть без дела. Даже самая старая из всех — бабушка Акунка находит для Себя занятие: крошит табак, разматывает нитки. А Павел Афанасьевич Мулинка каждое утро приносит на кухню дрова, таскает воду из Тумнина.
— Что, Николай Павлович, артель делать будем или, однако, не будем? — после недолгого молчания спрашивает Елена Алексеевна.
Она достает из глубокого кармана халата горсть табаку и набивает им трубку.
— Будем об этом говорить, — отвечает Николай Павлович и поясняет мне, что старики давно хлопочут об организации артели по пошиву меховой обуви и рукавиц.
Бабушка Адьян вынимает из-под матраца пару детских унтов из нерпичьего меха и маленькие рукавицы, расшитые красным узором.
— Смотри, какие шьем, разве плохо? — спрашивает она.
— Надо артель, конечно, — повторяет Елена Алексеевна. — Старухи все здоровые, чего там!
Оказывается, мастерицы занимаются своим любимым делом от случая к случаю, когда удается достать несколько нерпичьих или оленьих шкур. Но очень редко выпадает такое счастье. Колхозные бригады сдают пушнину на заготовительные пункты. А старики, живущие в этом доме, только изредка промышляют зверя, чтобы, как говорит Мулинка, поразмять свои сухие кости.
— Артель если делать — шкурки, думаю, будут, — говорит Елена Алексеевна. — Денег, конечно, старикам будет на табак — кури сколько надо.
— Верно, конечно, — добавляет бабушка Адьян.
— Разве не хватает вам? — спрашивает Николай Павлович.
— Хватает, конечно, — говорит Мулинка. — На свои деньги можно много больше курить.
Бабушка Адьян утвердительно покачивает головой.
— Я тоже думаю, что нужно артель создавать, — заключает Николай Павлович.
— Айя ну-ли! — улыбаясь, говорит Адьян. — Николай Павлович сказал: надо!
— Надо заявление писать, чего там, — оживляется Елена Алексеевна. — Можно, конечно, в Совгавань ехать, в райком партии прямо. Райком всегда даст почет старухам.
В самом деле, подумал я, почему бы не создать артель старым орочам. И, конечно, не только потому, что старики будут иметь свой заработок на личные расходы. Такая артель, и с этим согласен Николай Павлович, будет давать дополнительный доход колхозу «Ороч». Трудовое объединение опытных мастериц возродит и национальное искусство маленького народа. Ведь не только чудесную меховую обувь шьют они. Поистине с неподражаемым мастерством делают они и красивую берестяную посуду, украшая ее тончайшим орнаментом. Работа их славится. Многие специально едут из города, чтобы заранее, с осени, заказать красивые меховые унты или рукавицы, купить для подарка чумашки, кондюго, туески, шкатулку...
Дом престарелых орочей — гордость жителей бывшего стойбища. Старейшие и, значит, самые уважаемые люди родов живут в этом светлом, просторном доме, обеспеченные всем необходимым. Государство кормит, одевает, лечит их, заботится о том, чтобы ничто не омрачило их старость.
Я не знаю, есть ли еще такие дома на Севере, но в далеком, таежном поселке, на берегу Тумнина, в полном достатке живут тридцать самых старых орочей.
Бабушка Акунка — она считает, что живет уже сто пятнадцать зим, — невысокая, сухонькая старушка, глядит на меня маленькими, тускловатыми, словно затянутыми сизой дымкой глазами.
— Хорошо помните, как жили раньше? — спрашиваю я ее.
— Помним, конечно! — отвечает она тихим голосом.
Мне кажется, что она меня плохо видит, потому что, разговаривая со мной, глядит мимо меня в пространство. Я пересаживаюсь поближе, спрашиваю:
— Неужели все помните?
Она утвердительно качает головой. В самом деле, если бабушка не ошибается годами, то почти век — подумать только, целый век! — она провела в тайге, в тесном, из корья шалаше, где летом душно, а зимой холодно: только в самой середине шалаша, где горит очаг, тепло, а в двух шагах от огня, у стены — стужа. Сколько вынесла на своих хрупких плечах эта женщина, у которой на глазах рождались и исчезали целые роды и семьи. Бабушка Акунка дожила-таки до светлых своих дней. Теперь ни пурга, ни ливни не страшны орочам, темнота осенних ночей им не помеха, теперь даже самые древние старики говорят только о жизни.