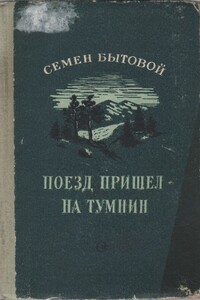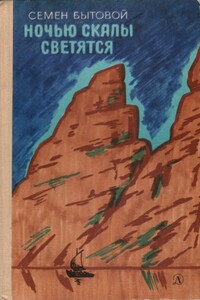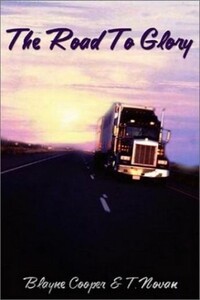Поезд шел на подъем, огибая крутую, каменистую сопку. В открытое окно вагона врывался медовый запах тайги.
Ночное небо было чистое, без единого облачка. Серебряные под луной, деревья на гребнях сопок вершинами уходили в небосвод, как бы тонули в нем, отчего прямые стволы лиственниц и тополей казались обрубленными почти до половины.
В глубине таежных зарослей слышался гул падающей воды. Днем мне уже приходилось видеть водопады, но, должно быть, особенно красивыми они выглядели при луне. Не успел я подумать об этом, как на повороте открылся такой хрустальный каскад. Он падал с отвесной скалы, падал медленно, даже лениво, — так всегда кажется глазу, долго следящему за быстрым, беспрерывным движением. Каскад ослепительно сверкал — вся растительность вокруг него была светлоголубой от этого сверкания — и грохотал, расплескиваясь на камнях в гулком ущелье. Стук вагонных колес не мог заглушить его грохота.
— Скоро Тумнин! — объявил кондуктор, проходя по вагону с фонарем. — Станция Тумнин!
Раньше, чтобы попасть на Тумнин, нужно было почти двое суток ехать с Амура поездом до Владивостока, а оттуда не менее трех суток морем до Советской гавани. Сегодня я трачу на эту дальнюю дорогу всего пятнадцать часов. Ни угрюмый девственный лес, ни бурные воды гремучих горных рек, ни головокружительные высоты отрогов Сихотэ-Алиня уже не являются помехой путешественнику. И все же полотно железной дороги кажется только тропинкой, проложенной сквозь тайгу. Однако достаточно было этой одной тропинки, чтобы оживилась веками нетронутая природа.
Я посмотрел на часы. Было без четверти четыре. На горизонте стали вырисовываться сизые полосы еще далекого рассвета. Поезд снова обогнул сопку, и справа показалась широкая река. Это был Тумнин, который нес свои быстрые воды на север, в Татарский пролив.
— Знаменитые арсеньевские места, — произнесла высокая смуглая девушка. Прислонив голову к оконной раме, она перебирала на груди крупные костяные бусы.
При слабом свете нарождающейся зари лицо ее было в легком румянце.
Я уже решил было заговорить с ней, но меня опередил паренек с пышным светлым чубом; в вагоне уже знали, что его зовут Костя и что он электромонтер.
— Какие, вы сказали, места? — спросил Костя, подходя к девушке, и взмахом сильной руки отбросил назад упавший на глаза чуб.
— Неужели вы не знаете! — ответила она, не меняя позы. — Здесь ведь ходил Арсеньев.
— Как не знать! Но только это было очень давно. А вы тоже в Совгавань?..
— Пока в Совгавань. Куда оттуда пошлют, не знаю. — Девушка грустно улыбнулась.
— Из Совгавани далеко не пошлют! — уверенно произнес Костя. — Как вас зовут, если не секрет, конечно?
— Наташа!
— Ну вот, Наташа, нам по пути. Я совгаванский. Город знаю, доведу куда нужно.
— Спасибо. Это очень хорошо, когда в новом месте есть хоть один знакомый, — ответила Наташа и с благодарностью посмотрела на него.
Не прошло и пяти минут, как Костя получил у девушки полные сведения — откуда она, куда и зачем едет.
Окончив в Молотове педагогический техникум, Наташа ехала на Север, к месту своей будущей работы. Она ехала одна, без подруг, потому что на Север была всего одна путевка и Наташа, комсорг курса, взяла ее себе, чтобы показать пример остальным выпускникам.
— И не жалею! Здесь очень красиво, — говорила она, чтобы Костя вдруг не подумал, что только ради путевки она едет так далеко. — Родных у меня никого нет, и грустить обо мне некому, — добавила она, совершенно растрогав Костю.
— Ничего, Наташа, везде советские люди. Везде родной дом, — сказал он утешительно, как взрослый говорит младшему, хотя они были на вид одного возраста: двадцати — двадцати двух лет, не более. — Нам на Севере очень нужны люди. Вот увидите. Если захотите, сможете остаться в городе.
— Просить об этом не буду. Так я решила, — твердо заявила Наташа, и вдруг крикнула:
— Смотрите, Костя! Филин летит, филин! Еще один! Совсем как у Арсеньева: «В это время какая-то тень на мгновенье закрыла луну. Это был большой филин. Он сел на соседнее дерево и стал ухать».