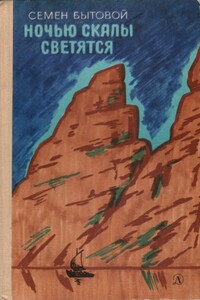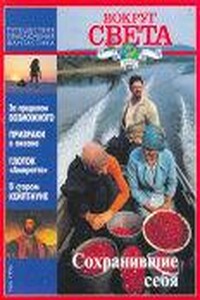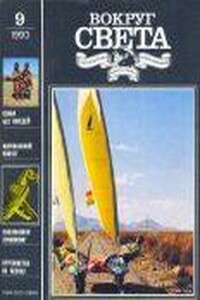Звали Тихона в то время Тишкой, так же как его отца Ивана звали Ивашкой, и все это было в порядке вещей.
— Ты, Ивашка, уйми своего Тишку! — говорил рыжий скупщик, помирившись в конце концов с отцом, когда забрал-таки приглянувшиеся ему десять лисьих хвостов, которыми так дорожили в семье.
— Однако уйму! — охотно обещал отец. — Он шибко молодой, чего там! — Но «унимать» сына и не собирался. Сам был во многом согласен с ним.
Тихон, не видя выхода из трудного положения, старался ни о чем другом не думать, как только об охоте. В тайге, среди природы, среди полного безлюдья он испытывал душевное спокойствие и поэтому не возвращался в стойбище по неделям. Он углублялся в такие места, где никогда не ступала нога охотника и где было много разного зверья. Даже следы тигра однажды увидел Тихон на влажной, росистой траве.
Арсеньева Тихон помнит хорошо. Среднего роста, худощавый, с чисто выбритым лицом, с глубокими складками возле рта, Арсеньев привлекал к себе орочей спокойной, доброжелательной речью. Он никогда ничего не требовал у орочей и никогда не отказывался быть в их кругу, ел с ними из одной чашки, спал на одной шкуре.
Тихон любил следить за Арсеньевым, когда тот садился к очагу, подобрав под себя ноги, и долго писал.
«Капитан Арсеньев, — думалось Тихону, — ведет с бумагой большой разговор». Одно только было непонятно молодому орочу: как это можно так долго разговаривать с бумагой. Когда уголек, которым писал Арсеньев, притуплялся, он очинял его охотничьим ножом, и вновь лилась беседа по белому листу. Один раз Арсеньев сидел возле очага весь вечер и всю ночь, до рассвета, и орочи с испугом говорили об этом между собой.
Может быть, и на бумажке, которую хранил Тихон, был записан очень важный разговор Арсеньева. «Нужно учиться читать и писать, — подумал он. — Когда орочи станут грамотными, никакой скупщик не сможет их обмануть».
С этой мыслью Тихон заснул. Но спал он плохо. Ворочался с боку на бок, узкая барсучья шкурка совсем свернулась под ним. Очутился он на сырой, холодной траве.
Проснулись орочи рано. Густой туман плыл над Хунгари. Александр Намунка вышел из палатки и, стараясь определить, каким будет день, долго рассматривал вершину высокой сопки, над которой едва намечались багровые краски зари. Потом он подошел к ульмагде, постучал кулаком по звонкому днищу, перевернул ее и столкнул на воду. Лодка, по его мнению, была хороша — до Амура дойдет.
Пока орочи подкреплялись пищей, река очистилась от тумана. Пробудились птицы. С разлета припадали они к голубой воде Хунгари и, сполоснув клювы, взмывали вверх, наполняя тайгу звонким шумом.
— Пора, однако, — сказал Александр Намунка, когда были выкурены трубки.
Быстрое течение подхватило ульмагду, Тихон ловко заработал веслом, направляя ее на середину реки.
— В городе совсем другие люди, наверно, — мрачно, после довольно долгого молчания, сказал Михаил Намунка. — Как будем жить в городе, думать страшно.
— Почему страшно, город совсем не худой, — ответил Тихон.
— Откуда знаешь, какой он? — спросил с некоторым оттенком укоризны Михаил Намунка.
Действительно, откуда Тихон знает, как выглядит город, какие люди живут в нем. Сам вчера сомневался, как его там встретят. Чтобы отвлечься от этой мысли, он стал часто подгребать веслом, и ульмагда еще быстрей понеслась по течению. Заметив впереди несколько коряжин, Тихон ловко славировал, обошел их стороной и затем опять вывел лодку на фарватер.
Солнце поднялось высоко над тайгой. Стало жарко. Орочи сбросили с себя меховые куртки. Михаил Намунка сменил Тихона, взяв у него весло, и занял его место на корме.
Трое суток шли они по Хунгари и там, где река впадает в Амур, запрятали ульмагду в густой кустарник. Там встретились с нанайцами, которые ловили рыбу. Внешне нанайцы почти не отличались от орочей. На них были такие же ичиги из желтоватой сохатиной кожи, такие же меховые жилеты, курили они такие же трубки, оправленные медными ободками. Но нанайцы, чьи стойбища были на Амуре, по соседству с русскими селениями, переняли от русских многое, о чем орочи еще не имели представления.