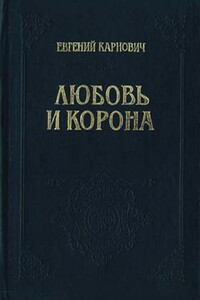— О drac al vânturilor![11] Дьявол зимы, дьявол бури, возьми безгрешную душу отца моего и принеси взамен легкую весну!.. Овцы наши, козы наши просят травы, дай им ее!
Сидевшие вокруг ложа на корточках мужчины и женщины, как будто подпевая бодрой победной песне, раскачиваясь вправо и влево, ритмично повторяли:
— О drac al vânturilor! Овцы наши, козы наши просят травы. Дай им ее!
В Хунядской крепости весну ожидали с великим нетерпением. Господин Янош, в каком бы зале крепости ни находился, много раз на дню гулкими шагами подбегал к окнам, высматривая погоду. Особенно усердно и часто он делал это после обеда, устроившись с отцом Балажем в оружейной для изучения волнующей науки начертания букв. Правда, мир молчаливого оружия и ржавчины, с адской медлительностью поедавшей его, был не самым подходящим местом для занятий, ибо тут не было даже очага, чтобы, сунув в него пару поленьев, хоть немного согреть воздух, поэтому руки, водившие заостренным гусиным пером, коченели, в особенности же у господина Яноша: его руки сводило и без мороза, ибо он так сжимал перо, так мучительно напрягал силы, выписывая буковки, словно день за днем крушил ряды вражеской армии. Священник Балаж уговаривал его заниматься наукою наверху, в гостиной, где можно было избежать хотя бы мук холода, но Янош всякий раз сердился и говорил, что не зябнет… Доля правды в этом, конечно, была — его просто пот прошибал, когда он начинал вырисовывать свое имя, и, покуда добирался до последней буквы, теплая бекеша сама слетала с него. А что руки коченеют — не беда: немного подышишь на них, и можно снова браться за письменные принадлежности. Ну, а если уж совсем умаешься от учения, отличным предлогом избавиться от него было наблюдение за погодой… И тут Ху-пяди усердствовал вовсю, даже слишком прилежен бывал…
В крепости никто не знал, с каким старанием он занимается каждый день после обеда в оружейной. По крайней мере, он думал, что, кроме отца Балажа, истина никому не известна. Сам он никогда ни с кем не говорил об этом, лишь поначалу, когда Янку или Михай стали допытываться, сказал, будто запирается подремать после обеда. Они, конечно, могли спросить, для чего ему священник во время послеобеденного сна, но, видя, как он раздражается, подшучивать перестали. И всем строго-настрого запретили мешать ему спать… Эржебет тоже наказывала детям не беспокоить в это время отца, хотя сама никогда у него не спрашивала, почему на послеобеденный отдых он уходит не в спальню, если уж так нуждается теперь в дневном сне… И бан был очень благодарен жене за ее такт. Свою великую жертву Хуняди приносил только ради этой молчаливой женщины с легкой поступью, ибо сам потребности в буквенной науке никогда не испытывал, но он почувствовал бы себя весьма скверно, если бы хоть раз между ними зашла речь о его занятиях… Он и сам понимал фальш этого, однако, раз уж все равно приходилось стыдиться, хотел сохранить хоть веру в то, что он один знает о собственных потугах, но вера его тотчас была бы убита вслух произнесенными словами… Если же наступал иной раз момент, когда он мысленно отчитывался перед собой, бан быстро разделывался с назойливыми вопросами, успокаиваясь на том, что намерен увидеть себя еще выше вознесенным судьбой, а для этого необходимо уметь писать хотя бы собственное имя… Но тогда возникал еще вопрос: ради кого он жаждет от судьбы возвышения? Почему с такой мучительной болью одолевает его неудовлетворенность собой?
В конце осени, полный гордого самодовольства, он прибыл в Хуняд из победоносного похода против Цилли. Он испытывал великое удовлетворение от сознания, что смог привести высокомерного графа к королю Уласло и заставить Цилли присягнуть ему. Когда молодой король сошел с трона, чтобы обнять Хуняди, а потом протянул ему грамоту, которая давала бану право распоряжаться королевскими поместьями в комитате Заранд, в зале находились все старые недоброжелатели Хуняди, теперь сразу же оказавшиеся ему друзьями: Гараи, Сечи, Мароти… Он едва дождался тогда конца торжеств, ознаменовавших заключение мира, и, даже не отдохнув после праздников, которые измаяли его не меньше, чем многомесячный военный поход, отправился домой, проделав путь меж Будой и Хунядом в более короткий срок, чем год назад, когда он снялся с места по письму Уйлаки, — так гнала его тоска по жене.