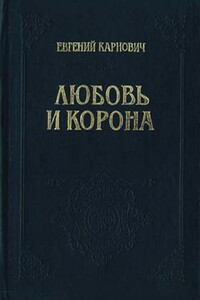Вместо ответа священник опустил голову и помолчал; потом тихо сказал:
— Я уж сказал, милостивый господин бан: человек думает — ни то и ни это, в действительности же и то и это — все…
Погруженный в свои мысли, Хуняди молчал, и тогда Балаж горячо высказал свою просьбу:
— Господин бан, отпусти меня обратно в Каменицу! Дозволь вернуться в мой старый приход, к моей прежней пастве! Не жалуюсь я, хорошо мне подле тебя жилось, ни в чем не испытывал я нужды, что для плоти мило и желанно. Но я в душевном покое нуждаюсь. Чую, здесь мне никогда не обрести его, напрасно сулил это отец Якоб…
— Тебя привела сюда ересь твоя, отсюда ты не уйдешь, — решительно отклонил его просьбу Хуняди.
— Милостивый господин бан, не будь столь суров ко мне, словно к слуге неверному, хоть я, быть может, и дал к тому повод. Вот ты сказал, что не только во мне, и в твоей милости беспокойство живет. А если так это, господин бан, ты сможешь понять, как губительно то, что творится во мне… Будь ко мне милостив!
Лишь теперь, слушая бурную речь священника, Хуняди взглянул ему в лицо. Он содрогнулся, увидев эти лихорадочно пылающие, глубоко запавшие глаза, бледность осунувшегося лица, болезненный румянец кожи на остро выступающих скулах, — с одного взгляда заметил эту сгорающую молодость и вдруг осознал, слушая жаркую торопливую мольбу, как сильно сдал, сник этот человек за год, проведенный у него. И теперь под впечатлением увиденного он отвечал иначе.
— Куда ж ты пошел бы, безумный поп? — кротко и мягко произнес он. — Куда? Пасти прежнюю свою паству в старом приходе, откуда ты убежал, борясь с самим собой? И думаешь найти там покой, и думаешь, что паства твоя будет внимать тебе с доверием? Не забывай, кто единожды выкажет сомнение, никогда уже не сможет проповедовать твердость, коя скале подобна.
— Тогда я стану смиренным учеником моих прежних прихожан, которых бросил, убежав столь внезапно. И если они не поверят мне, признаю их правоту, ибо я изменил им! Но отпусти меня к ним, милостивый господин бан, чтобы я мог служить им, покуда позволят силы мои. Не приходским священником, а холопом хочу я стать крепостному люду, которого бросил в нужде его.
Священник исступленно бичевал, обвинял себя, суровые слова, перемежаясь лихорадочным дыханием, слетали с его губ, тощее тело дрожало от волнения.
— Безумен ты, поп, видно, завелась в тебе какая-то хворь либо порча, потому и истязаешь себя. Как может священник стать холопом у крепостных? Да и что поймут крепостные в твоих проповедях о вере? Уж не хочешь ли вернуться к мятежным гуситским заблуждениям, от коих с таким трудом избавился? Возьмись за ум, а не то придется мне разжечь под тобой костер, чтобы помнил! — сказал Хуняди с ободряющим смехом и потрепал священника по хилой спине.
Однако Балаж не принял шутки, он вскочил из-за стола, за которым они занимались письмом, и принялся так кричать, что вся оружейная загудела:
— Сожги меня, милостивый господин бан, сожги! Искуплением то будет за предательство. Сожги меня, могущественный господин, ведь это лучший ответ на истину. Ибо истина в том, что и ты, из бедняков возвысившийся, властелином большой части страны ставший, и ты ничем не лучше прочих господ! Ты с ними грызешься, верно, говоришь — ради блага страны, но ведь все это только ради обогащения твоей милости… А разве не крепостным и прочему бедному люду принадлежит эта страна, тем, кого ты помог разбить у Колошмоноштора?..
В первый момент Хуняди как будто окаменел от столь необычного зрелища, непривычных слов и тупо слушал проникнутые ненавистью речи, но потом вскочил с места и, побагровев от гнева, заорал на взбесившегося священника:
— Прочь с глаз моих, проклятое гуситское отродье, а не то пришибу! Не будь на тебе поповской одежонки, не жить бы тебе за гнусные твои слова!
Из глаз священника хлынули слезы, они лились по лицу его, пока он медленно пятился к дверям оружейной, но даже на пороге он продолжал сыпать проклятиями, словно фанатичный монах:
— Все вы, вельможи, — подлые грабители народа!.. Это против вас защита нужна, не вы стране помощь окажете!..