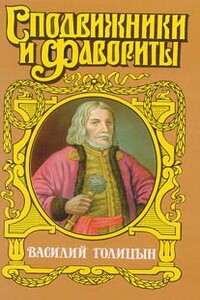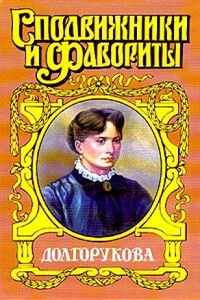— Докладай, Лукич. — Пётр был, по обыкновению, нетерпелив.
— Неладно, государь. Один, регент Филипп Орлеанский, источен беспутною жизнью от всевластия своего и может помереть в одночасье, другой стар, упрям и болен. Тоже не жилец на белом свете. Регент желает видеть сына своего герцога Шартрского Людовика за нашей великой княжной. Да и то ежели сему герцогу будет обеспечен польский престол. Упрямы оба. Малолетний король, само собою, голоса в сём торге не имеет. Представил я ему портрет нашей принцессы, да только он нимало не взволновался. Мальчишка, одно слово.
Пётр угрюмо глянул на него:
— Стало быть, не сладились. Послал бы ты их в задницу, Лукич.
— Неловко как-то, государь.
— С герцогами и королями, — продолжал своё Пётр, — наш товар бесценен, не дешевле ихнего. Мы своё возьмём.
Остался мрачен, раздумчив. Шагал по токарне взад-вперёд огромными своими шагами, бормоча:
— Нарожали от меня бабы мальчонков, а толку чуть. У одной Дуньки Чернышевой — трое. Мрут от чего-то. То ли семя моё с изъяном, то ли худо берегут няньки да мамки. Экое наваждение!
Шилья вонзились в поясницу изнутри, Пётр выругался, вызвал денщика, приказал принесть кирпич с печи: приложишь горячее, ан легче станет. Сам изыскал, без докторов.
Стал перед иконой Богородицы Утоли Моя Печали, сказывали — целительная. Просил облегчения. Кирпич, прижатый к пояснице, медленно остывал. Молитва ли, тепло ли помогло — боль отступала. Просил Господа помилосердствовать.
— Всемогущий Боже, всё ты видишь — и мои заботы, и мои недуги. Облегчи, избавь. Велика моя ноша, а кому передать, не ведаю. Грех на мне, грех сыноубийства, каялся и каюсь. Радел о благе отечества моего, единое помышление было о нём.
Искупительная жертва — какова она будет. Помыслил о ней, и стало легче.
Кликнул Макарова:
— Готовь выезд. Со мной поедешь.
Макаров взглянул вопросительно.
— Тайны из сего не делаю. Внучат навещу. Гляну, каковы они. Чать, моего семени доля.
Пришёл черёд удивляться Макарову. Привык к непредсказуемым, неожиданным поступкам своего повелителя, но, чтобы он вдруг вспомнил о своих внуках — детях погубленного сына Алексея, такого не бывало. Как-то раз спросил, каково за ними смотрение. Ему доложили, что приставлен к ним человек старательный камер-юнкер Семён Афанасьев сын Маврин, что обучает их манерам и обходительности танцмейстер Норман, ходят за ними женщины из обстоятельных. Услыхав, успокоился и более не вспоминал.
Приезд императора к сиротам вызвал переполох — не ждали, не чаяли столь высокой милости.
— Ваше императорское величество. — Маврин, обомлев, дрожащим голосом докладывал: — Их высочества Пётр и Наталья находятся в полном здравии и благополучии...
— Веди, веди меня к ним, — не дослушав, гаркнул Пётр. — Сам у них справлюсь, каково за ними смотрят.
Старшей, Наташе, исполнилось девять, внучонку Петруше двенадцатого октября минет восемь. Завидев Петра, дети, занятые какой-то игрой, вскочили с пола, и оробев, уставились на него.
— Чего зенки-то выпучили? — стараясь говорить как можно мягче, произнёс Пётр. К горлу подкатил нежданно комок. Сглотнув его, он продолжал: — Встречайте, дед я ваш.
Петруша выступил вперёд. Он был, несомненно, Нарышкинской породы, унаследовав от отца высокий лоб, серые глаза с лёгкой выпуклинкой, как у деда, да и росточком, видно, будет в обоих.
— Здравствуйте, дедушка император всероссийский и прочая, и прочая, и прочая, — нараспев произнёс он.
Пётр невольно рассмеялся. Лёд был сломан.
— И прочая, говоришь? Я-то император, а ты кем собрался стать?
— Генералом вашего императорского величества, — совершенно серьёзно отвечал внук.
Пётр окончательно развеселился. Он был и тронут и умягчён.
— Вишь, без подарков явился к вам. Пришлю непременно, коли оплошал. Любите небось подарки?
— Подарки все любят, — со взрослой интонацией отвечал мальчик.
— А ты чего помалкиваешь, Наташа? — обратился Пётр к девочке, жавшейся в углу комнаты.
— Я... боюсь, — после долгого молчания отвечала девочка. — Вы... Вы такой страшный.
— Страшный? — изумился Пётр. — Отчего же? Я тебя не съем. Я к детям добрый, — сказал он и с огорчением подумал, что к внукам своим он не был добр — их для него просто как бы не существовало. А они были и при живом бессердечном деде росли сиротами.