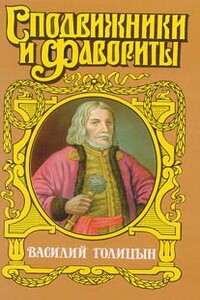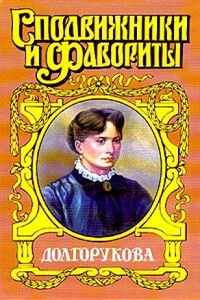Старшие сыновья князя с откровенным восхищением заглядывались на мачеху. Но то был плод запретный. И Анастасия относилась к ним, как относятся юные существа к дальним родственникам, — без особого интересу.
Ей хотелось жизни весёлой и беспечной, хотелось блистать на ассамблеях, ловя восхищенные взгляды мужчин и завистливые — женщин. А вместо этого она была заточена в глухомани, у постели умирающего мужа, который был едва ли не втрое её старше, и вся сжалась от нетерпеливого ожидания свободы. Свобода должна была прийти к ней с последним вздохом супруга.
Он обворожил её в дни сватовства. Он был подвижен, элегантен, умён, обладал высоким именем и положением. А как он сидел в седле, как гарцевал — то был истинный кентавр! Государь был сватом — никто не смел воспротивиться. Счастье её было недолгим, лучше сказать — коротким. Куда короче, чем супружество, конец которого уже близок.
«Скорей бы, скорей», — думала она. Жалости уже не осталось: слишком долгой была обречённость, и ожидание конца уже обратилось в докучливую привычку.
Она была уже далека от князя и даже перестала напускать на себя страдальческий вид. Но и князь был уже далёк от неё; она словно бы была здесь чужой — и для него и для всех остальных. Ближе всех к князю Дмитрию была Мария, дочь, чью драму он пережил как свою.
— А теперь помогите мне перейти в сад, — неожиданно попросил князь. — А потом ступайте по своим делам.
— Может быть, в беседке тебе будет удобней, — предложила Мария.
— Нет, нет, — торопливо произнёс князь, — Поставь мне кресло у старой липы.
— Но туда уже заглянуло солнце.
— Ничего. Там ещё достанет свежести.
Кресло поставили на прежнее место. Князь глядел на шершавый ствол и, с трудом протянув руку, дотронулся до него. Он был тёплый и словно бы живой: кора была кожей живого существа. И всё вокруг было полно жизни. Воинственные колонны муравьёв маршировали взад и вперёд по стволу. Он загляделся на них, на их деловитость и устремлённость.
Да, жизнь торжествовала. Невнятные звуки живой природы казались князю музыкой. Он словно бы впервой слышал их и упивался. Оказалось, что ему не доводилось вслушиваться в этот шелест, шуршание, писк, стрекотание, жужжание, в этот дивный оркестр. Он зазвучал для князя в предсмертную пору. Глаза его были распахнуты, уши отверсты, он впивал и впивал эту музыку. Быть может, потому, что все заботы наконец оставили его. Осталась лишь одна — достойно встретить смерть.
И вдруг князь Дмитрий почувствовал странную лёгкость во всех членах. Потом веки сами собой смежились, голова упала на грудь. «Спать, спать», — успел пробормотать он. И погрузился в свой последний сон.
Спустя полчаса Мария пошла его проведать. Она осторожно приблизилась к нему. Отец спал. Не решаясь его тревожить, она так же неслышно удалилась, радуясь в душе, что отец наконец уснул: ночи его были болезненны и тревожны.
Помедлив немного, она вернулась. Князь не переменил позы, и сердце её сжалось в страшной догадке. Мария стремительно кинулась к нему и схватила его за руку. Рука была холодна.
Мария не вскрикнула, не застонала. Она опустилась на колени, держа мёртвую руку князя, переставшую быть её опорой, и слёзы градом брызнули из глаз.
Подоспел Антиох, за ним остальные. Они перенесли князя в дом. Доктор Леман констатировал смерть.
— Князь жил достойно и умер как праведник, — сказал он.
Траурный обряд был долгим. Сначала отпели князя в домовой церкви. Затем скорбная процессия тронулась в путь, далёкий и нелёгкий.
Семейная усыпальница светлейших князей Кантемиров находилась в Никольском монастыре, рядом со Славяно-греко-латинской академией и синодальной типографией, в самом центре первопрестольной столицы. Рядом лежала Красная площадь с собором Василия Блаженного, с Кремлем и его святынями.
Своим иждивением князь возвёл в монастыре надвратную церковь над усыпальницей, где покоились супруга Кассандра и дочь Смаранда, умершая шестнадцати лет от роду...
На погребальную церемонию прибыли Пётр и Екатерина, великие княжны, Сенат в полном составе, министры и послы иностранных государств.