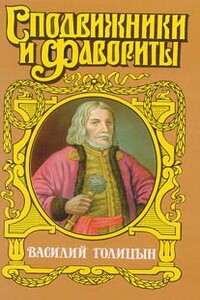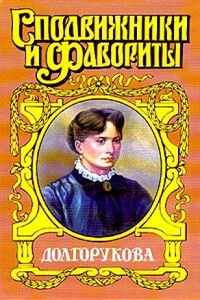Князь Дмитрий испытал разочарование: гукер не бывал в Астрахани, а стоял на якоре в Аграханском заливе на случай посылок всё то время, пока войско подвигалось на юг, к Дербенту.
— Приказано было губернатору Волынскому доставить лес и прочее нужное для крепостного фортификаторства туды, в залив, — негодовал Пётр. — И что же?
— Выждали сколь можно, а опосля, не дождамшись, принялись, как есть, ваше императорское величество, — рапортовал Меншиков.
— Людей занять да транжамент[103] поднимать, — поддержал его Пальчиков.
— А капитан Вильбой как стал с ластовыми судами у Чеченя, так и стоит, — доложил Меншиков.
— Те суда вовсе прохудились, — подхватил Пальчиков. — А всё потому, что не для морского плавания строены были Соль сосну ест, ровно ржа. Тамо дуб надобен был. Опять же со тщанием просмолить следовало.
— Смолы, однако, не оказалось надёжно заделать.
— Губернатору дали знать о присылке смолы?
— Вестимо, ваше императорское величество, — объявил Меншиков. — Результату не дождалися. А теперя, коли доставят, почитай с месяц уйдёт на конопатку да заделку. Ежели не сделать, пойдут ко дну рыбу кормить да зверей морских.
Видно было, что Пётр с трудом сдерживает рвущийся наружу приступ гнева. Он побагровел, глаза, казалось, готовы были выскочить из орбит. Ежели бы в эту минуту рядом оказался губернатор Артемий Волынский, он прибил бы его.
Столь много горечи испытывал он каждый раз, как приходилось терпеть разочарование в людях, на которых он возлагал надежды. Таковые разочарования настигали его всё чаще и чаще. Всё приходилось доглядывать самолично, решительно всё. Без царского кнута да дубинки дело замирало. Надобен был погонятель постоянный. А он, император всероссийский, не в силах был везде поспеть да всё наладить...
Среди этих то гневных, то горестных раздумий ему доложили, что в лагерь прибыл некий владелец дагестанский со свитою и требует привесть его к великому царю.
— Впустить, пущай к сапогу приложится, — мрачно сказал Пётр.
Человек в черкеске и папахе с лицом, продублённым до коричневости, был впущен в шатёр вместе с двумя своими сопровождающими. Предварительно им велено было оставить свои кинжалы за порогом, чему они вначале не хотели подчиниться. Толмач объяснил:
— По ихним законам это означает бесчестие.
— У нас свои законы, и пусть не упрямятся — царь не велит пускать к себе вооружённых людей.
Они неохотно подчинились. У входа владелец пал па колени, а затем, резво поднявшись, приложил к губам полу мундира и затем и руку Петра.
— Спроси, чего ему надобно от меня. Да пусть не тянет: надобно сниматься с места — задул норд, море грохочет.
— Именуется он Рустем-кади, владелец табасаранский. Грабитель Дауд-бек разрушил его главную обитель — аул Хучни...
— Где сей аул помещается? — перебил толмача Пётр.
— Он говорит: там, где кончается Великая Горная стена, это вёрст эдак сорок от Дербента.
— Где ж он раньше был, когда мы под Дербентом стояли? — сердито произнёс Пётр.
Но Рустем-кади, видно, понял вопрос и торопливо зачастил:
— Он знает, что в Дербенте осталось много русских начальников. Среди них есть такие, которые понимают толк в крепостном строении. Там у него, в ауле Хучни, была крепостца, а Дауд-бек её разрушил.
— Дауд-бек сей — наш общий враг, турецкий прихвостень. Мы так до него и не добрались, — огорчился Пётр. — Сему человеку следует помочь. Пиши, Алексей, коменданту Юнгеру: «Мы всемилостивейше соизволили и повелели ему, Рустему, помянутой город в том или в другом месте, где запотребно усмотритца, построить... и дадутся ему в тот город пушки и по пропорции оных надлежащая амуниция и к строению оного по пристойности люди, тако ж для лутчего того города строения будет прислан инженер». Всюду, где можно, надобно противность Дауд-беку оказывать и на то щедро потребный материал и людей отпускать, дабы враг сей восчувствовал, что мы до него досягнём.
— Он в горах скрывается и свой след заметает, — сказал толмач. — И люд тамошний под страхом наказания его банду кормит и поит и нужный припас даёт.