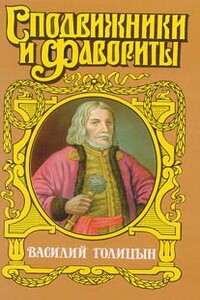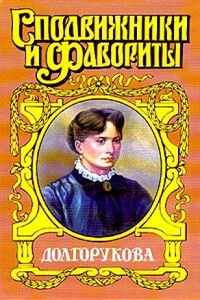В обозе был кумык, взятый из Тарков для переводу и провожания, ибо местных наречий князь Дмитрий не понимал. Послали его вместе с есаулом Маневским.
Время шло, однако посланные не возвращались. Было решено стать лагерем — день был на исходе да и кони не кормлены, а рядом зеленели выпасы, что казалось удивительным. Однако объяснялось это просто: наверх выбивались подземные воды.
Фёдор Матвеевич стал беспокоиться: казаков с провожатым всё не было. Наконец явился один кумык. Вид у него был оторопелый.
— Ну что? — приступили к нему с расспросами князь Дмитрий и Апраксин. — Где казаки?
— Султан Махмут через своих мюридов велел передать, что не будет противиться белому царю, так как могущество его известно. Но что никого к ним засылать больше не надо, а если надумают, то сами переговорщиков пришлют.
— А казаки-то где, казаки? — допытывались у него.
— Казаков увели, — с тяжёлым вздохом отвечал он. — Да и меня заклеймили изменником и хотели было прирезать, да я вовремя понял и скрылся за скалами.
— Что-то ты не то говоришь! — возмутился Апраксин. — Как это переговорщика прирезать.
— А у них это запросто, — махнул рукой кумык. — Если чем не угодишь — режут.
Решили: у страха глаза велики — напугали его, вот он и бежал. Не может какой-то там султан Махмут бросать вызов великому царю, а всё, о чём говорил кумык, смахивало на вызов. И казаки пропали. Решили дожидаться утра.
Ночь прошла тревожно. В горах, слышно, стреляли. То ли причудливое горное эхо, умножавшее всякий звук и творящее его неузнаваемым, но всем, кому не спалось, казалось, что они слышат крики и стоны. А может, то ветер метался среди скал и дерев, лепившихся по склонам, шакалы и волки, сзывавшие друг друга.
Казаки пропали. Пётр было приказал направить в разведку усиленный пикет, а армии продолжать движение: задержка была несносной.
Пикет не успел уйти далеко. Из разверстой пасти ущелья, с которым поравнялся передовой разъезд, стремительно вылетели конники в развевающихся чёрных одеждах. Они неслись молча, с воздетыми ятаганами, и тотчас смяли и порубили казаков. Уцелевшие в панике обратились назад.
Казалось, вот-вот они врежутся в передние ряды. Но Пётр увидел это с высоты своего роста и мгновенно оценил последствия.
— Мать вашу, мать вашу! — заорал, словно вострубил. — Чего топчетесь, говнюки! Драгунов вперёд!
И, выхватив шпагу, он дал шпоры коню.
Апраксин пустился вслед за ним.
— Государь, куда ты, не пущу! — кричал он дрожащим голосом. — Не можно тебе туда!
Оборотившись к оторопевшей свите — денщикам и гвардейцам, Фёдор Матвеич прокричал:
— Чего рты разинули — оберегите государя, черти! Он же в самое пекло лезет. Он же отчаянный.
Пётр и в самом деле пустил коня в галоп, готовясь возглавить отпор и восстановить порядок. Но от начавшейся сечи его отделяла по меньшей мере сотня сажен. За это время произошёл перелом: драгуны и казаки остановили лаву.
Там, впереди, всё ещё рубились и кололись, гремели одиночные выстрелы. Апраксин и гвардейцы наконец нагнали Петра и по команде генерал-адмирала сомкнули плотное кольцо вкруг него.
— Пустите, дьяволы! — орал Пётр всё ещё в запале.
— Нельзя тебе туда, нельзя, государь! — стонал Апраксин.
— Пехоту двигай, чёрт толстый! — хрипел Пётр. — Фузелёров! Перестрелять да переколоть!
— Ужо погнали! — в восторге заревел гвардейский капитан Зотов. — Бьют их, ваше величество, почём зря.
Пётр остановил запаренного коня. Лицо его было бледно, глаза выкачены. Карета Екатерины прорвала круг, государыня, столь же бледная, как и её повелитель, припала к его ногам.
— Господи, Петруша, опомнись! — причитала она. — Пойдём ко мне в карету, пойдём. — Она опасалась припадка, и Апраксин, очутившийся рядом с ней, это понял. Он повторил просьбу Екатерины.
— Ну ладно, ладно, — уже умиротворённо произнёс Пётр, слезая с коня и подавая денщику поводья. — Приказал ли ты, Фёдор Матвеич, дабы из авангардии слали нам доношения?
— А как же, кажные четверть часа дежурный адъютант будет докладывать.
И точно: вот уже прискакал дежурный адъютант и соскочил с коня перед Апраксиным.