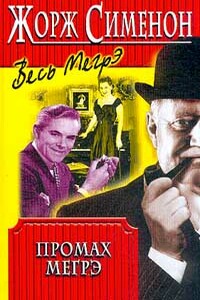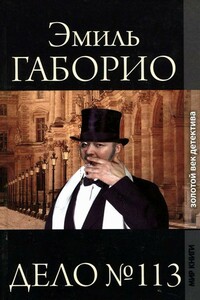Комиссар, отличавшийся дородностью, пыхтя и отдуваясь, поднялся по лестнице и взял трубку.
— Алло! Да… Где он? Что он делал? Что он говорит?.. Как?.. Нет, не стоит сейчас его расспрашивать. Вы уверены, что он не знает? Продолжайте наблюдать за вокзалом. Весьма возможно… Что касается этого человека, пошлите его немедленно ко мне…
Взглянув на Лекера, он на минуту заколебался.
— Да, в сопровождении. Так надежнее. Он набил трубку, разжег ее и только потом объяснил, словно обращаясь ко всем находящимся в комнате:
— Его задержали, когда он уже более часа слонялся по залам ожидания и на перронах. Он очень возбужден. Все твердит о какой-то записке сына. Он его дожидался там.
— Ему сказали, что старуха убита?
— Да. Это повергло его в ужас. Его сейчас приведут сюда. — И, словно извиняясь, добавил: — Я предпочел, чтобы его доставили сюда. Учитывая ваше родство, я не хотел, чтобы вы подумали…
— Благодарю вас.
Со вчерашнего вечера, с одиннадцати часов, Лекер находился все в той же комнате, на том же стуле — вот так и ребенком он часами сидел на кухне рядом с матерью. Вокруг все будто застыло. Лампочки вспыхивали, он вставлял вилку в гнезда; время незаметно, но неудержимо двигалось вперед, а между тем там, за окнами, Париж жил своей праздничной жизнью: тысячи людей отстояли уже полуночную мессу, другие бурно встретили рождество в ресторанах, пьянчуги провели ночь в полицейских участках и теперь, продрав глаза, предстали перед комиссаром. Чуть попозже у зажженной елки соберутся дети.
Что же делал все это время его брат Оливье? Умерла старая женщина, мальчишка, поднявшись ни свет ни заря, бежал, задыхаясь, по безлюдным улицам и, обернув руку носовым платком, разбивал попадавшиеся на его пути сигнальные стекла.
Что нужно было Оливье в жарко натопленных залах ожидания и на перронах Аустерлицкого вокзала, где гулял ветер?
Прошло менее десяти минут. Этого времени как раз хватило на то, чтобы Годен, который никак не мог избавиться от насморка, успел приготовить себе новую порцию грога.
— Не хотите ли попробовать, господин комиссар?
— Благодарю.
Несколько смущенный, Сайяр тихо шепнул Лекеру:
— Может, пройдем в другую комнату и там поговорим с вашим братом?
Но Лекер вовсе не собирался оставлять свои лампочки и вилки, соединявшие его со всем Парижем. По лестнице уже поднимались. В сопровождении двух полицейских вошел Оливье, на которого все же не надели наручников. Он похож был на плохую фотографию Андрэ, полинявшую от времени. Взор его тотчас же остановился на брате.
— Что с Франсуа?
— Пока ничего не известно. Ищут.
— Где?
И Лекеру ничего не оставалось, как показать на план Парижа и на свой телефонный коммутатор с тысячью гнезд.
— Повсюду.
Обоих полицейских отослали, и комиссар произнес:
— Садитесь. Вам, кажется, сказали, что старуха Файе убита?
Оливье не носил очков, но у него были такие же бегающие и светлые глаза, как у брата, когда тот снимал очки — всегда почему-то казалось, будто он только что плакал. Он смотрел на комиссара, словно не замечая его.
— Он мне оставил записку… — пробормотал Оливье, роясь в карманах своего старого габардинового пальто, — Ты что-нибудь можешь понять?
И он протянул брату клочок бумаги, вырванный из школьной тетради. Почерк не ахти какой аккуратный. Мальчуган, по-видимому, был не лучшим учеником в классе. Он воспользовался химическим карандашом, кончик которого смочил языком, так что теперь у него, наверное, на губе лиловое пятно.
Дядя Гедеон приезжает сегодня утром на Аустерлицкий вокзал. Приезжай быстрей, встретимся.
Целую. Биб.
Не говоря ни слова, Андрэ Лекер протянул бумажку комиссару, который несколько минут вертел ее в своих толстых пальцах.
— А почему Биб?
— Так я называю его. Только не при людях, он стесняется. Это имя я дал ему, когда он был еще грудным младенцем.
Оливье говорил ровным голосом, не повышая и не понижая тона, и, вероятно, ничего не видел вокруг себя, кроме странного тумана, в котором двигались какие-то силуэты.
— Кто такой дядя Гедеон?
— Такого нет.
Ему и в голову не приходило, что он говорит с начальником опергруппы по расследованию убийств, который ведет допрос по уголовному делу.