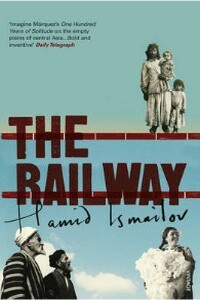Врачи неотложки
предложили срочную госпитализацию, но Татьяна Васильевна отказалась, о чем
пришлось давать специальную расписку. Боялась больниц, в жизни не лежала. Была
уверена — попадешь хоть раз на больничную койку, так и будешь там до самой
смерти частым гостем. А больничных запахов и бледно-голубых стен на дух не
переносила. «Скорая» уехала, и Алевтина, причитая, помчалась звонить знакомым,
которые знали нужный адресок. Татьяна попыталась, было, возражать, но та
отмахнулась: да не трясись ты за свою работу, что тебе беременной сделают?
Дед Андрей (сам так
велел себя называть) в дом вошел так, будто каждый день здесь бывал, да и с
Татьяной Васильевной заговорил, словно она ему близкая родственница.
— Что, прихворнула,
Танюшка? — были первые его слова, при этом он как-то необычно ласково потянул
ее имя на первом слоге. А как глянул на ее огромный живот, так и похмурел. Сел
и долго молча покряхтывал, теребил бородку да позевывал. И Татьяна Васильевьвна
совсем притихла, поняла, что скажет ей сейчас этот дед нечто важное, а, может,
и не очень приятное. Дед же закрыл глаза и протянул над ней руки. Пошептал,
позевал, даже, показалось, заснул совсем. Но потом вдруг встрепенулся,
откашлялся громко и посмотрел на нее приветливо.
— За весь век ничего
такого не видел. Два человека в тебе, Танюшка, это точно. Два младенчика... Но
душа у них одна на двоих.
— Да как же это? —
всплеснула руками за его спиной Алевтина.
— Откуда же мне знать? Я
ж не ведаю, а просто вижу.
— И что? — тихо спросила
Татьяна Васильевна.
— Если б все как в
математике было, сказал бы я, что один из близнецов при родах умрет. Но
этого-то я как раз и не вижу. А уж как одно на двоих поделят — одному Богу
ведомо...
Татьяна Васильевна
облегченно вздохнула. Будет у нее двое сынишек, а уж кому души не хватит — она
свою отдаст. Да и правда ли все это?
Пришел полоумный дед, наговорил
всякостей, нагнал тумана, а ты верь.
Дед Андрей улыбнулся:
— Оно, конечно, рентгену
больше верят, — будто мысли прочитал, — но душу рентгеном не высветишь, не
увидишь. А вот простуду твою мы быстро прогоним. — Потеребил бороду и ушел на
кухню, где стал кипятить воду, чтобы заварить-запарить травы.
Как бы там ни было, а
уже на следующее утро после отвара, приготовленного дедом Андреем, Татьяне
Васильевне враз полегчало. Только-то и осталась от болезни слабость после жара.
Дед навестил ее и на другой день. Принес клюквы на морс и еще пошептал над ней,
позевал, порассказывал байки. А когда пришла Алевтина, засобирался уходить.
— Ну, далее не моя
компетенция, а если понадоблюсь — адрес знаете.
Денег не взял. И ушел,
пошаркивая, позевывая да плечами пожимая.
А ровно через месяц
Татьяна Васильевна оказалась в роддоме. И все было, как полагается, и боли
никакой сначала не почувствовала... Сначала. Это когда Семен на этот свет
пробивался, да и не то слово — пробивался, легко шел, как по маслу. Никто ей не
орал на ухо, мол, тужься. Так себе: разговоры вполголоса, даже слышно было как
ходит туда-сюда под окном муж — совершающийся отец Андрей Георгиевич. И вдруг
началось: резкая боль и первые крики врачей:
— Да как же это?!
— Он же обратно!
— Не может быть...
Понимала, что происходит
что-то неладное, но что она могла? Только терпеть и ждать. А потом от боли и
вовсе сознание помутилось. Когда стала приходить в себя, рядом с ней была
только улыбчивая пожилая акушерка. Ее еще «наседочкой» в роддоме звали. Для
таких, как она, рождение каждого младенца не работа, а праздник, оттого и была
счастливее всех на свете. И, казалось, что скрыта в ее лучистых глазах вечная
тайна рождения. Добрая тайна. И нашептывала она эту тайну обессиленным
роженицам. Вот и над Татьяной Васильевной шептала ласково:
— Все у тебя хорошо,
милая... Два малыша-крепыша. Но один — забияка немножко. Старшего, видать,
отпихнул, обязательно захотелось ему первым быть. Да у нас тут пока что места
всем хватает. Врач-то наш за двадцать лет практики ничего такого и не видела!
Во как. Он-то тебе, неуемыш этот, больно и сделал.
— Значит, оба живые? —
прошептала Татьяна Васильевна.