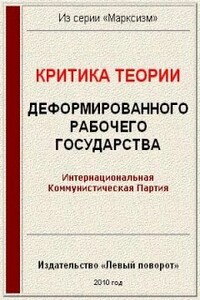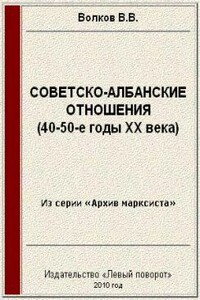*) Стих апокрифической думы, каких много сочиняли козацкие потомки в наше
время и выдавали за старинные кобзарские.
.
27 и
Освободясь от назойливости Перебииносов, Нечаев да Морозенков, которые, во
главе яростной черни, рвались к Белой Реке, Хмельницкий направил путь свой по
следам ненавистного князя Яремы, но все не спешило военными действиями, как бы в
насмешку над премудрым Киселем, который советовал панам „воевать, но ие
сражаться". Теперь он, можно сказать, только держался на пенистом гребне девятой
волны, чтоб она не залила самого его, увлекая все вперед и вперед, под бурпым
дыханием козацкого бунта. Не осмысленные никаким определенным стремлением,
кроме порыва к истреблению Ляхов до ноги, волны руинного разбоя ужасали наконец
степного шляхтича, перенесенного из круга мелочных козацких интересов на широкое
поприще интересов общественных, религиозных, национальных и государственных. В
неожиданном, непривычном, губительном триумфе, он восседал на своей
всепожигающей колеснице, держа с трудом туго натянутые бразды козацкой
завзятости. Он, очевидно, давал панам время оправиться и положить хоть где-нибудь,
хоть на сарматской Белой Реке преграду стихийной силе, пока её руинные деяния не
привлекали па нее оружия соседних государей. Это была та сила, которая и под
бунчуком соперника Сагайдачного, пьяницы Бородавки, хвалилась уже, что перед нею
трепещет Польша, Турция и целый свет,— та вдохновенная чутьем своей будущности
сила, которой, в её дикой стихийности, было суждено „обрушить" могущественную
тогда Поль шу, дабы взяла над нею перевес могущественная ныне Россия.
Хмельницкому было чего пугаться, восседая па своей триумфальной колеснице.
Теперь он был окружен уже не одними грубыми противниками панского
господства, но и такими людьми, которые могли бы служить советниками завоевателю,
не чуждому гражданственных и экономических стремлений. Многие шляхтичи,
гонимые бедствиями войны, или озлобленные подобно ему самому членами панского
правительства, приняли на себя козацкий образ и соединили неверную судьбу свою с
козацкою „щербатою долею". Но, под влиянием господствовавшего в козатчине
настроения умов, главную роль между ними начал играть буквальный последователь
греческой веры, взятый в плен на Желтых Водах, Выговский. Как человек глубоко
религиозный в том, что относилось к формам древнего русского благочестия, и глубоко
бесчестный в том, что относится к его духу, он сделался, так сказать, исповедником,
духовным отцом Хмельницкого и вполне овладел этим диким умом, осно
272
.
ванным на тех зыбких правилах долга и чести, которые характеризовали всех
просвещенных иезуитами шляхтичей. Он-то, этот Выговский, доигра и относительно
Тишайшего Государя ту роль, которую самому Хмельницкому не дала доиграть одна
привычка к неумеренному пьянству. Без совета Выговского не делал Хмельницкий
ниодного шага. Все, что у Хмеля было двумыслешиого в сношениях с Поляками,
Москвой, Татарами, Турками, Волохами, Венграми, Немцами, принадлежало на
добрую долю Выговекому. Огь него, без сомнении, научился Хмельницкий туманить и
самих Козаков, которые воображали, что правят своим гетманом, как шляхта правила
королем, а между тем исполняли то, что было нужно ему.
Ниодной крепости и города не занял Хмельницкий но выходе из Иилявецкого
„курятника". Города козакам, как и Татарам, были не нужны. Через знаменитый
будущею осадою Збораж и через Старый Константинов прошел он, забавляясь
вырываньем бороды мертвым львам: эти города совсем опустели. В Бродах оставил он
такую часть войска, которая была способна только опустошать окрестности, и лишь
для виду наказал этому отряду овладеть замком, а с городом древнего русского князя
Льва, как увидим, игрался, точно с мышью кот, пресыщенный уже ловитвою.
Там давно началась тревога. Ополяченный с XIV столетия Львов, эту столицу Руси
и редут от внешнего неприятеля (Metro polim Russiae et propugnaculum ab internis
hostibus), как величали его Поляки, считали они гнездом тайных заговорщиков против
польского отечества, и самый бунт Хмельницкого был у них „бунт Русский (rebellia
Ruska)".