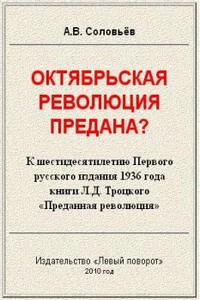взмужает, и он ему, Потоцкого сыну, то отомстит. И Потоцкого де сын то сказал отцу
своему, и Николай де Потоцкой велел Богданова сына Хмельницково, как он ехал из
Киева к отцу своему, на дороге изымать и его у себя во дворе убить, обсекши руки и
ноги, весне 156 (1648) году, а жену Богдана Хмельницково с дочерью взял Потоцкой к
себе. И за то де Богдан Хмельницкой собрал войско черкаское и призвал к себе
Крымских Татар, и все войско королевское Черкасы побили, и гетмана Николая
Нотоцкого и польного, и Николаева сына Потоцкого, Петра, и многих знатных людей
поймали; и Петра Николаева сына Потоцкого Хмельницкой казнил на поле перед отцом
ево за своего сына".
Подобные вести вариировались бесконечно, давая материал современным
летописцам и кобзарям для изображения того, чего даже не могло и быть. Но вместе с
ними отовсюду, начиная с Белой Церкви и оканчивая Смоленском и Дорогобужем,
приходил столь же нелепый слух, что козаки бьются с Ляхами за веру. Даже такие
люди, как дорогобужский мытник, Жид Давид, даже заезжие немецкие прикащики,
наконец, и сами „Ляхи" в Белоруссии— твердили в один голос: что „война с козаками
учинилась за веру"; что „козаки с Ляхами завоевались за веру"; что „бьются козаки с
Ляхами за веру".
Бегство монахов за московский рубеж продолжалось. Местные власти, от имени
оставшихся игуменов, просили пограничных воевод вернуть их, как воров,
похитивших церковное серебро, кни* ги и даже одежду братий своих. Но беглецов
препровождали в Москву и царская дума выслушивала от них (пе выражая ни в каких
наказах собственного воззрения на козацкий бунт): что „Поляки на них похваляются:
как де они с козаками запорожскими управятся и они де християнскую веру греческого
закона искоренят,
189
и церкви христианские разорят, а их, чернцов, побьют всех, чтоб от них, чернцов,
впредь бунтов не было“.
Эти последние слова вовсе не выражают, чтобы малорусские монахи принимали
непосредственное участие в козацких мятежах, хотя козацкие историки рассказывают,
на основании современных выдумок, будто бы львовский владыка посылал порох и
свинец козакам Хмельницкого, а луцкий—даже пушки, называвшиеся гаковннцами.
(Об этом будет у меня речь в своем месте). Но вопли попов и монахов, изгоняемых из
церковных имуществ для водворения в них тех, которые отвергли „схизму“ во имя
единения церквей, или тех, которых сместили, по Филиповичу, могшяне» эти вопли и
жалобы, плач и озлобленные речи против Ляхов, под которыми разумелись вообще
паны, и способные, и неспособные защищать веру предков своих,—сделали глубокое
впечатление на ту массу, для которой ни государственное, ни общественное право не
существовало; а к этой-то массе и обратились козаки. За веру! за веру! раздавался
всюду клич, где из панских жилищ голодная сволочь таскала хлеб, где пылали панские
дома вместе с экономическими заведениями, а панское добро делалось достоянием
поджигателей.
Но это был клич героев самозванщины, героев Московского Разорения, изобревших
только новый девиз для своего истребительного промысла. Ниодин епископ, ни игумен,
ни даже протопоп, к чести полуразрушенной малорусской церкви, не выступил вместе
с запорожцами Хмельницкого в роли возмутителя украинского простонародья. Даже
нерадивые, подобные Филиповичу, даже и они притаились в своих скитах и
монастырях.
В ужасное лихолетье Хмельнитчины, заставившее нас припомнить позабытую
Батневщину, игуменствовал в Почаевском монастыре почти столетний уже старец,
преподобный Иов Железо. Родившись в 1551 году, он прожил в иноческих подвигах и
времена протестантского легкомыслия малорусских панов, и времена продажного
отступничества малорусских архиереев. Его чествовал Князь Василий, обратясь от
униятских мечтаний к православницкой борьбе с папистами. С ним Иов Борецкий, в
„великой“ печерской церкви предавал проклятию апологию Смотрицкого. Его
репутация, как мужа святого, была такова, что одному появлению его вне
монастырских стен приписывали испуг и бегство Татар, набежавших „великою
Ордою“. Если кто-либо, так именно этот самоотверженный аскет мог бы теперь играть
роль Петра Пустынника пропове-