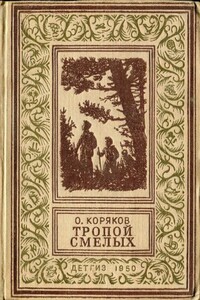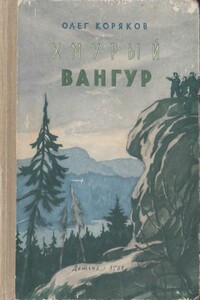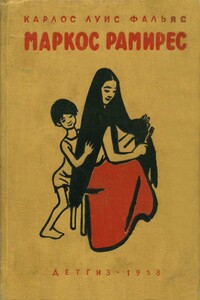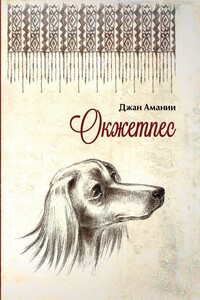— Мне сейчас некогда разговаривать. Я сейчас спать буду.
Петя вздохнул.
— Не хочешь? — Он задумался, и ему почему-то стало жалко себя. А на Ваню он снова начал сердиться. — Не хочешь?.. Ну, как хочешь! — Петя тряхнул головой и, оглядываясь: не видал ли его кто-нибудь, пошёл от изолятора.
А потом он долго бродил по лагерю, и его длинная фигура выражала уныние и печаль, и этого уныния не могли скрасить ни новые трусы, ни сиреневая необычно чистая майка.
Как это сказала Сончик? «Очень нехорошо!» Совсем плохо, Сончик, совсем плохо!..
Лагерь жил своей хлопотливой, неугомонной жизнью. На площадке перед клубом, где обычно проходила утренняя зарядка, малыши играли в кошку и мышку. Они радостно повизгивали, когда мышка — быстроглазая расторопная девчушка — ловко увёртывалась от кошки, и громко ойкали, если кошке — длинноногой рыжекосой девчонке — удавалось прорваться сквозь круг крепко стиснутых ручонок. На веранде дачи второго отряда занимался геологический кружок. Там было тихо — читали какую-то книгу. Из леса раздавались голоса «топографов» — кружковцы тренировались в съёмке местности. Возле нарядной клумбы разлеглись вокруг большого листа фанеры несколько девочек из ботанической секции. Они готовили классификационные бланки для гербария. Когда Петя проходил мимо, одна из них громко шепнула: «Вот он идёт…», и все девочки повернулись и стали смотреть на Петю.
Плохо, совсем плохо!..
Было жарко. Расплавленный воздух струился медленно, лениво, а иногда останавливался совсем — густой, душный, и его было трудно вдыхать. Небо слепило глаза, а серая дымка на горизонте, наливаясь зноем, синела и ширилась.
Петя побрёл к Силантьичу, за кухню. Старик сидел в тени на досках, а рядом, на обрубке бревна, примостилась Ася Васильевна. Петя хотел сделать «поворот от ворот», но вожатая его заметила, сощурила свои глаза:
— Разморился? Садись к нам, посиди.
Петя салютнул, скромненько сказал «спасибо» и присел на краешек доски.
Силантьич вёл со старшей вожатой неторопливую беседу о себе, о жизни, о том, о сём.
— …Я ж и говорю тебе, Васильевна: неудачливый я человек. Взять вот эти гидростанции на Волге. Прямо сердце болит. Это же моя специальность — гидростанции строить. Право слово, вот кого угодно спроси. Нашу районную кто строил? Я. В Сосновке, рядом вот, опять же меня приглашали. Потому — плотник. Не скажу: какой-нибудь особенный, а всё же… Затешу уголок — что твой носок. И, значит, в самый бы раз мне сейчас на Волгу податься, а нельзя. — Силантьич в горестном недоумении поднял свои узкие плечи, выпятил вперёд нижнюю губу, кургузая бородка его подскочила. — Ревматизма привязалась. И опять же, как вот этих оставишь? — Жёлтым заскорузлым пальцем он ткнул в сторону Пети. — Конечно, никакой я тут не начальник — сторож, а всё же…
— Правильно, Иван Силантьич, — решил поддакнуть Петя, хотя и не разобрался толком — о чём речь. — И потом вы уже старенький, — добавил он и напугался: Силантьич круто повернулся, бородёнка его воинственно выпятилась.
— Ишь ты, стручок зелёный! Старенький! Чего ты понимаешь? Я, может, ради этих строек ещё в восемнадцатом году в партизанах хаживал. Чьё это, значит, дело? Не моё, а?.. Старенький! Да я вот сейчас же пойду, напишу товарищу начальнику заявление: отпускай — и махнул твой старенький на Волгу. Стручок ты зелёный!..
Дед совсем, видно, разобиделся: замолчал, отвернулся, насупил свои длинные и жиденькие седые брови, поджал губы и засопел, с силой выдувая воздух на обычно обвислые, а тут растопорщившиеся усы. Ася Васильевна, скрывая улыбку, укоризненно посмотрела на Петю. Тот смущённо шмыгнул носом, поёрзал на досках и не без опаски придвинулся к старику:
— Иван Силантьевич… Ничего, вы поезжайте. Может, всё-таки возьмут на стройку. А?
Силантьич медленно повернул голову к Пете, взглянул усталым прозрачным старческим глазом и неожиданно сказал:
— А правильно, сучок ты этакий. Стар я, правильно. И рука вот уже дрожит. — Он вытянул свою корявую и жилистую, покрытую взбухшими венами руку, перевернул, внимательно глянул на иссеченную неровными глубокими бороздами бугристую ладонь и усмехнулся. Усы его опять обвисли, и лицо сделалось простым, добрым и чуточку грустным. — Может, говоришь, возьмут?.. Эх-хо-хо…