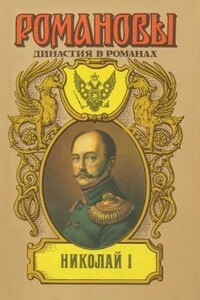— Слушай меня, хлопец… Не о себе хлопочу, мне все равно крышка. За наше революционное дело душа болит… Если ты вправду настоящий большевик, не трус и честный советский юрист, сегодня же отправляйся в Москву. Добейся приема у Сталина. А не сможешь добиться этого приема, ступай к кому-нибудь из членов Политбюро — Ежову, Ворошилову, Молотову… Доложи им, что тут истребляют цвет Партии, десятки тысяч честных советских людей. Да не зевай, гляди, не тяни с этим. А то оглянуться не успеешь, как сам окажешься в такой же кутузке.
Корнев слушал прерывистый шепот заключенного, стараясь вникнуть в каждое его слово. Все, что говорил этот человек, самым поразительным образом совпадало с тем, что думал он сам. И он верил Степняку уже почти безусловно. Устами этого мученика контрреволюционной неправды говорила как будто сама гражданская совесть молодого юриста, советского гражданина и члена большевистской партии. Если бы Корнев не был воспитан в духе атеизма и пренебрежения ко всяческим суевериям, он, возможно, подумал бы о некоем Провидении, приведшем его в полутемную одиночку Центральной. Но это сделала цепь хотя и маловероятных, но вполне естественных событий, подтвердивших старый принцип — все тайное неизбежно становится явным. В особенности верен этот принцип в отношении государственных преступлений того масштаба, который он сейчас выявил. И он даст организаторам этих преступлений бой, в благоприятном исходе которого Корнев почти не сомневался. Любая контрреволюция в СССР может нести только местный, локальный характер. Для ликвидации очага той, которая окопалась в здешнем Управлении НКВД, нет, по-видимому, особой необходимости беспокоить самого Генерального секретаря, как это советует Степняк. В Советском Союзе, как и во всякой конституционной стране, есть орган, облеченный достаточной властью для пресечения любых нарушений законности. И наказания виновных в этом людей, какое бы высокое положение они ни занимали. Этот орган — Главная прокуратура Союза. Во главе ее стоит человек, обладающий кроме власти еще и непререкаемым, общепризнанным авторитетом. К нему-то и обратится Корнев. В известном смысле верховный прокурор — его коллега по профессии. И он, наверное, не откажется его принять, несмотря на всю свою занятость. И уж конечно, лучше всякого другого поймет и оценит всю важность донесения работника провинциальной прокуратуры, специально для этого к нему приехавшего.
С арестованным своими соображениями прокурор не поделился, хотя твердо решил спасти этого человека. Но это только часть его задачи, и способы ее решения он должен выбирать сам. И в том, что действия доносчика на опасную банду злодеев из местного управления НКВД должны быть быстрыми и решительными, Корнев был со Степняком совершенно согласен.
Еще более угрюмый, если это возможно, чем он был до посещения прокурором камеры № 83, начальник спецкорпуса провел его через ворота своего отделения и нехотя козырнул на прощанье. Его, видимо, не оставляло тяжелое недоумение по поводу неожиданного визита и возможно, вызванное им смутное ожидание неприятностей. Корнев тоже полагал, что у этого хмурого тюремщика должны быть достаточные основания для такого беспокойства. Ведь из его отделения до прокуратуры только каким-то чудом добралось одноединственное заявление от заключенного, да и то написанное кровью. Впрочем, он, несомненно, всего лишь исполнитель чьей-то воли, пешка.
Из тюрьмы Корнев, не заходя в прокуратуру, отправился домой. Захватив там только чемоданчик с дорожными вещами, он поехал на вокзал. Сегодня его непоявлением на службе коллеги будут только несколько удивлены. Завтра они решат, что он заболел. Когда же выяснится, что их коллега нарушил нормы поведения советского служащего, станет ясным также, что он сделал это ради цели, способной оправдать и куда большие нарушения. Ближайший поезд на Москву отходил во второй половине дня. Следующий за ним был только ночью. Ждать этого, второго поезда, было уже опасно.
* * *
Если бы лишь тысячная часть заявлений от арестованных на имя генерального прокурора Союза ССР Вышинского достигала адресата, то и тогда он вряд ли смог бы даже бегло просмотреть их. Но на пути бесчисленных жалоб на всевозможные несправедливости из следственных тюрем было воздвигнуто достаточно преград, начиная с тюремных печек, чтобы почти ни одна из них не могла отвлечь главного законника Союза от более важных дел. Именно так обстояло дело и с заявлениями от уже осужденных, поступающими, главным образом, из лагерей принудительного труда. Теперь простое уничтожение этих заявлений считалось уже неполитичным, и большая их часть благополучно добиралась до Главной прокуратуры. Но дальше канцелярии секретариата они обычно не попадали. Особенно если заявление исходило от осужденного по политической статье. Многочисленный штат прокуроров низшего ранга, прочтя только «установочные данные» жалобщика и номер его «почтового ящика», переписывали их на печатный бланк, в котором четким типографским шрифтом жалобщик уведомлялся, что оснований для пересмотра его дела «не установлено». Никакой волокиты и особых промедлений при этом не допускалось. Машина Верховной прокуратуры работала четко и слаженно.