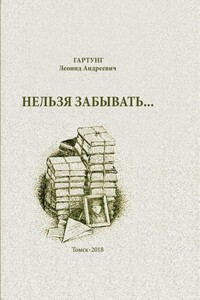Рано утром, стоя у вагонного окна, Иван Васильевич пристально вглядывался в бегущие мимо улицы пригорода и не узнавал родного города. Незнакомым оказался и двухэтажный белый вокзал, выросший на месте желтого закопченного строения, и площадь перед вокзалом, где прежде дремали извозчики, а теперь сверкали лаком новенькие, комфортабельные такси. Вдали голубели прежние горы, и над ними простиралось привычное небо, но город стал совсем иным. Было такое ощущение, что в старую раму вставили новую картину. И позже, когда он ехал по улицам в одном из этих такси, всюду искал взглядом старое, привычное. Несколько раз мелькнули знакомые черты: резные ворота с подгнившими столбами, водоразборная будка на перекрестке, обомшелая и жалкая, кое-где старые, деревянные дома. Все остальное, то самое, что он так бережно хранил в памяти, исчезло без следа.
Неожиданно вспомнил, как встречал Клавдию, в тот год, когда она кончила учительские курсы и приехала сюда уже его невестой. Это было в двадцать первом году, летом. Ехали, кажется, вот этой же длинной улицей. Дергалась пролетка по крупному булыжнику, качалась пыльная спина извозчика, а рядом бежал легчайшей балетной рысцой игреневый жеребенок. Клавдия шалила, тянулась к нему, стараясь погладить его морду, а он, опасливо стрельнув темным глазом, шарахался в сторону от ее руки… Да, тогда была Клавдия. Теперь он ехал один.
Внезапно умолк шум мотора. Машина остановилась. Что такое? И понял: «Приехали». Вот дом, в котором он жил. Тот самый дом. Его можно было узнать, несмотря на то, что он поблек и ссутулился. Одно только странно — почему он здесь, а не на окраине города? Раньше рядом с ним ровным полем зеленел выгон. Сразу за ним густой синевой поднималась тайга. Оттуда, как из-за кулис, выходили облака, вставало солнце. Теперь улица уходила вдаль. Геометрически точной прямой она разрезала те поляны, где он мальчишкой играл в лапту.
Шофер вытащил из багажника усталый, потертый чемодан, поставил его на тротуар и уехал. Дом равнодушно смотрел на Ивана Васильевича полдюжиной невысоких окон. В окнах белели полоски раздернутых занавесок. Между ними яркими пятнами горели цветы. Те же самые петушьи гребешки и примулы, что и двадцать лет назад. Иван Васильевич постучал. Дверь открылась. Женщина в коричневом платье, не узнавая, спросила:
— Вам кого?
— Тебя, Нина.
Женщина вздрогнула, прищурилась, всматриваясь в его лицо.
— Иван Васильевич, голубчик!
Она радостно, неловко поцеловала его в щеку. — Так проходите же, проходите.
Он смотрел ей в лицо. Больно было видеть, как оно изменилось. Как многого в нем не хватало! Словно из хорошей книги кто-то грубо вырвал страницы. И все же где-то в глубине теплилась прежняя красота. Она светила для немногих, для тех, кто любил ее.
Никто не спросил его, зачем он приехал. Ему отвели комнату с окном в сад. Ту самую, в которой он жил прежде, и жизнь в доме потекла так же, как до его приезда. Нина унесла в ясли маленькую Зойку. Минут через десять ее муж Алексей Стратонович ушел на работу и увел в детский сад пятилетнего Сережку.
Иван Васильевич остался один, неторопливо обошел весь дом. В сенях еще сохранился верстак Виктора, а подле него на стене планка с гнездами, в которые он когда-то вкладывал стамески, зубила, сверла. В большой комнате, как и раньше, стоял большой рояль. Старик поднял крышку и попробовал взять несколько аккордов. Это не удалось — рояль был расстроен, да и сухие старческие пальцы не слушались. Вспомнилось, как учил он сына играть на этом рояле, еще не Виктора, а Вику — курносого, остроглазого. Мальчишка крутился на винтовом стуле и все поглядывал в окно, на улицу, где товарищи его гоняли лапту. Нет, музыка его не увлекла. Мальчонку тянуло к технике… Он устроил в сенях целую мастерскую. Вечерами здесь шумела паяльная лампа, жужжал сверлильный станок, поблескивали длинные, таинственные искры электрофорной машины.
И позже, когда Виктор учился в педагогическом институте и собирался стать математиком, он и здесь оставался непостоянным, все еще искал себя, перекидываясь от методики геометрии к астрономии, к радиотехнике.