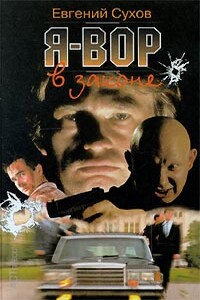Подошёл чернец огромного роста. По всему видать, схимник, ряса на нём старая и грубая, а под ней голое тело. Ветхая одежда не грела в мороз и парила на солнце. Кожа у монаха дублёная, привыкшая и к холоду, и к зною.
— Ты прости, государь, стеречь я тебя приставлен. Вины здесь моей нет. Что мне сказано, то я и делаю. Потому и схиму на себя взял. А ты меня не признаешь, князь?
— Нет, не признаю.
— Я тот чернец, что присоветовал тебе в Москву покаянным входить.
Присмотрелся Василий и узнал свою совесть.
— Чего уж теперь.
Монах швырнул охапку сена на снег.
— Если государю не пристало на мягком ехать, то мне-то зачем? Авось не замёрзну! Трогай, возница, государя Шемяка дожидается.
Никогда для московского князя Василия дорога не была такой длинной. Бывало, быстро добирался до Троицы и вёрст не замечал, а сейчас уже всё успел передумать, обо всём поразмыслить, а дороге и конца нет. Чернец сидел напротив и угрюмо молчал. Лёгкой позёмкой забросало рясу, а зад, казалось, на морозе пристал к саням. Сидел монах, не шелохнувшись, и тоже думал о чём-то своём: возможно, о похороненной мирской жизни, а может быть, готовил свою плоть к новым испытаниям. Василию подумалось: ведь ни Иван Можайский, ни Никита не вспомнили о его сыновьях. Не догадывались, что Иван и Юрий с отцом в монастырь поехали. Монахи строго стерегли государеву тайну, что ж, и на том спасибо.
Какой ни долгой была дорога, но Москва появилась внезапно. В эту ночь она показалась Василию Васильевичу чужой. Неласково встречала вотчина. Угрюмо вокруг, и башни выглядели темницами. Чернеца совсем не было видно во мраке, и только недобро светились глаза.
— Вот и приехали, князь. Ты уж не обессудь, что стражем при тебе был. А ведь это наша не вторая встреча. Коломну помнишь, когда Юрий тебя удела лишил?
— Как же такое забудешь.
— Так вот, я и там тебя сторожил...
— Кто у ворот? — послышался голос начальника караула.
— Князя везём, Василия, — был ответ. — Ко двору московского князя Дмитрия Юрьевича.
Ворота отворились, и возница, продрогший в дороге изрядно, прикрикнул нетерпеливо на лошадь:
— Что стала? Копыта примёрзли? Топай, давай!
Лошадка шумно выдохнула клубы пара и понуро поволокла сани великого князя в неволю.
Дмитрий Шемяка был на Поповкином дворе.
Михаил Алексеевич принимал Дмитрия как великого князя — кланялся до земли, целовал руку, а девкам своим велел прислуживать и глаза на князя беззастенчиво не пялить. Дочки у боярина Михаила Алексеевича удались на славу — одна краше другой! Обе высокие, толстые косы до самых пят. Лицом белые, а чернющие глаза словно угольки жгли.
Дмитрий пьянел всё более. Да и было от чего! Настойка у боярина сладкая, вино хмельное, а девки — одна краше другой. Скоморохи не давали скучать — прыгали через голову, задирали шутейно друг друга, тыча кулаками в бока, кричали петухами, носились по комнате и ржали жеребцами.
Дмитрию приглянулась старшая дочка Михаила Алексеевича — девка пышная, сдобная, мимо проходила как пава, походка плавная, бёдрами покачивает, грудь высокая, что тебе каравай хлеба.
На дворе уже была глубокая ночь, самое время идти в свои хоромы, но Дмитрий Юрьевич не торопился. Наклонилась девка, отвечая поклоном на похвалу князя, косы до полу упали.
— Боярин, — подозвал к себе Дмитрий Михаила Алексеевича, — домой к себе я не пойду. Поздно уже, думаю, ты меня не выставишь.
— Разве бывало такое, чтобы боярин выставлял великого князя!
— Земли-то у тебя много?
— Пять сёл, — гордо отвечал боярин. — Самое большое из них Клементьевское. Под Тверью все они. Я ведь из тверских бояр, государь.
— Не забыл. Хочешь, Михаил Алексеевич, две деревни в кормление получишь! И не где-нибудь, а под самой Москвой! Со стольными боярами в чине сравняешься.
— Как не хотеть! — опешил от такой милости Михаил Алексеевич, подливая в стакан князю белого вина.
— Дочка мне твоя старшая приглянулась... Кажется, её Настасьей звать.
— Настасьей.
«Стало быть, и эта Настасья, — подумалось Шемяке, — может быть, так же и в любви понимает».
— Пусть перину мне постелет, да помягче! Притомился я малость, спать хочу.