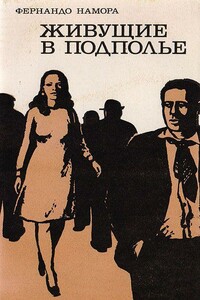— И теперь вы задумали переменить климат, зная, что в любое время можете вернуться в свою комфортабельную и неприступную крепость?
Она ладонью прикрыла его рот.
Зе Мария не знал, гордиться ли ему тем, что Эдуарда оказалась такой беззащитной. Он инстинктивно испытывал отвращение и зависть к ее касте, к могущественным людям, которые без труда удовлетворяли все свои желания, и тем не менее вот как легко, оказывается, заставить ее показать свою слабость! Она взбунтовалась против пресыщенной монотонности существования, жаждущая и отважная, и выбрала его орудием мести, но ему, крестьянину, даже если он и подозревал, что является орудием, а не соучастником, все равно это казалось триумфом. Эдуарда была представительницей надменного мира власть имущих, и все же она призналась в своем отчаянии и поражении.
Чтобы отвлечься, девушка бросила камень в небольшое озеро.
— Вы любите воду?
Зе Мария приосанился с высокомерием знатного господина. Солнечные лучи разгладили морщины на его лбу. Он испытывал какое-то дикарское удовольствие перед этой покорной буржуазной, словно наслаждался местью.
— У меня на родине только груды камней и горы. Когда мы мечтаем о воде, то представляем себе море и волны, а не лужу с лягушками.
В этой фразе звучало нескрываемое самодовольство.
Но она произвела впечатление. Эдуарда посмотрела на него с восхищением и робостью и вдруг спросила:
— Хочешь, я стану твоей женой?
Они подошли к ее дому уже ночью. Прежде чем подняться по лестнице, Эдуарда сняла туфли, чтобы никто не заподозрил, как поздно она вернулась. Зе Мария постоял еще немного на безлюдной улице, радостный и смущенный, не в состоянии разобраться в своих чувствах. События захлестывали его. Ведь то, что должно было вскоре последовать, хотя и происходило уже не по его инициативе, хотя настроение ему отравлял горький осадок предательства, могло расцениваться как победа, как неожиданный и эффектный бросок на пути его честолюбивых стремлений.
Эдуарда выглянула из окна своей комнаты на верхнем этаже и бросила ему апельсин. Этот жест показался ему напоминанием о встрече, смутным обещанием. Зе Мария поднял апельсин с земли. Он стоял с апельсином в руках, а вокруг была ночь, город, ненасытный, вечно куда-то спешащий мир. Неделю назад он был в гостях у Карлоса Нобреги, и, несмотря на то, что их окружал тот же ненасытный и спешащий мир, они были безмятежно счастливы оттого, что их согревала мечта. Капелька мечты, уцелевшей в жизненном водовороте.
Зе Мария задумчиво повертел апельсин на ладони и, отойдя на несколько шагов, раздавил его ногой. А потом темная ночь поглотила Зе Марию. И Эдуарда больше не могла его разглядеть.
В конторе сеньора Мендосы все шло по-прежнему, Дни сменяли друг друга без радости и без огорчений, и вчерашний день как две капли воды был похож на сегодняшний. Толпа за окном кричала, металась в тревоге и тоске, а незаметный конторщик, такой, как сеньор Мендоса, сидя за письменным столом, мог простым росчерком пера усмирить волнения и страсти миллионов людей. Поразительно. Невероятно. Сеньор Мендоса правильно оценивал величие своей миссии, над которой другие, неистовые, издевались, потому что он наслаждался прочным положением и достатком.
Но сын не признавал и не ценил этой миссии. Для него контора была гробницей, где томительно влачились дни. Жизнь за пределами конторы — на Университетском проспекте, на вокзале, где гудели проходящие мимо поезда, — трепетная, вдохновляющая, — вот единственное, что его привлекало. Впрочем, все это было ни к чему. Он не имел возможности к ней приобщиться, убежать из своей тюрьмы Силвио мог только с помощью поэзии.
И так проходило время, месяц за месяцем. Сеньор Салвадор неукоснительно полнел, несмотря на больные почки и намерение соблюдать диету. И даже несмотря на бездельника-сына, пятно на его безупречной репутации. Вечно отсутствующего сына, хоть тот и сидел за своей конторкой. «Мой сын — облако», — говорил он. И в самом деле, Силвио витал в облаках. Вечерами сеньор Мендоса испытывал страшные муки, наблюдая в который раз, точно он смотрел старую киноленту, за отрешенностью сына от мирских дел. И в эти минуты даже ценил в нем стремление к бегству от действительности. Мать коротала время за шитьем и вязанием, сеньор Мендоса делился происшествиями в отделе, нарочно недоговаривая, чтобы дать сыну возможность дополнить рассказ. Но тот сидел, уставясь на несуществующее пятно на потолке, или на свои чудовищно грязные ногти, которые он по лености забывал стричь, или на огонь в очаге, и его уши оставались глухими, рот немым, мысли где-то блуждали. Все усилия были напрасны. Случалось и так, что кинолента повторяла самые мучительные для отца сцены: Силвио в магазине прячет книгу за прилавок, Силвио пишет глупости, недостойные взрослого здравомыслящего человека, Силвио…