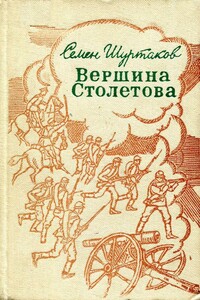— Да, это Колин отец…
Опять помолчала, словно бы окончательно собираясь с духом.
— А встретились мы с ним в ту весну сорок пятого, когда еще и верилось и не верилось, что война окончилась… Сколько книг написано, сколько кинокартин видеть пришлось, где все начинается двадцать вторым июня сорок первого года, а кончается победой. А у нас все начиналось уже после войны… Ему девятнадцать, только-только военное училище окончил, мне и того меньше. На нем новенькая офицерская форма, на мне — штапельное платьишко и, как сейчас помню, босоножки, которые тогда танкетками звали… Встретились в клубе нашем деревенском — это сейчас Москва сюда дошла, а тогда мы еще подмосковной деревней числились. А ихнее училище здесь же, неподалеку, в бывшем барском имении располагалось… Нет, что-то я все не то рассказываю, скучно как-то получается. А ведь было-то не так!
Антонина Ивановна опять поглядела на затененное, в редких солнечных бликах окно, словно через это окно и хотела увидеть то, теперь уже далекое время, увидеть, как и что тогда было.
— Да и то: непросто рассказать о таком, что между двоими бывает и только их одних касается… Стою я в том платьишке да красно-голубых танкетках с подружками в уголку и вижу: подходит к нам новенький, весь с иголочки, офицерик. И как я его завидела, так сердчишко у меня в пятки ушло: уж так-то, так-то он мне с самого первого взгляда показался, полюбился… Говорить говорят: любовь с первого взгляда, а верить в нее никто не верит. И я бы не поверила, если бы у самой такого не было… Так вот, подходит он, а я, как нарочно, не в первом ряду стою, а у подружек за спиной. И так-то мне — уже зараньше — горько стало, что меня-то он не заметит — где там заметить, когда в первом ряду вон какие красивые да нарядные девчонки стоят! А только подошел вплотную к нам офицерик и глазами — мимо, мимо подружек — в меня уставился. У меня руки и ноги похолодели, выхожу ни жива ни мертва и глаз на него поднять не смею. И такая благодарность к нему всю меня затопила и за то, что он отличил меня от подружек, и что почуял мое состояние. Может, с этой минуты для меня все уже и было решено…
Слушая Антонину Ивановну, Николай Сергеевич тоже видел весну того победного года, видел себя в форме главстаршины и свою Нину, с которой впервые познакомился в офицерском клубе, после какого-то вечера. Только было это не в Подмосковье, а в далеком Приморье, в бухте Находка, и санинструктор Нина была не в штапельном платье, а тоже в военной форме…
— Жили мы тогда с матерью, отец с сыном — моим старшим братом — с войны не вернулись… Зимой — вместе здесь, в доме, а по летам я спала в дровяном сарайчике — вон там, в уголке сада, он стоял, — Антонина Ивановна кивнула на окно. — Ну, раз он меня проводил с танцев да другой. А потом уже и на танцах перестали бывать, он прямо сюда, ко мне в сарайчик, приходил. И все то лето, как одна ночка короткая июньская, пролетело… И вот ведь как вспоминать. Можно вспоминать, что тяжелейший был — первый послевоенный! — год. И деньги ничего не стоили, и хлеб по карточкам — а уж если хлеба не досыта, чего уж о другом говорить?! — и победа победой, а горе чуть не в каждой — да что там чуть, — в каждой семье: не отец, так сын, не муж, так брат в чужой земле остались… У меня же, хоть военное горе и нашу семью не обошло, у меня то лето было самым счастливым в жизни…
Антонина Ивановна замолчала, и лицо ее было каким-то просветленным, словно бы она сейчас вглядывалась в свое счастливое лето сквозь огонь и дым только что отгремевшей войны, и все там стояло рядом — и великое горе и великая радость.
— Недолгим было наше счастье… Как-то прибегает: «Пошли в сельсовет. Сейчас же, немедленно!» Я никак не пойму, что за спешка и при чем тут сельсовет, а он: «Нынче ночью отправка». — «Какая отправка? Куда?» — «Ну, ты, — говорит, — спроси чего-нибудь полегче…» — «Так ведь кончилась же война!» — «Для кого-то кончилась, а для нас с тобой, выходит, еще нет…» Стою я перед ним, плачу, за руки его держу, а соображать ничего не соображаю. Ну прямо как затмение на меня нашло. Одно только и делаю: все крепче и крепче его за руки ухватываю, ровно бы от этого все и зависит, ровно бы буду вот так его держать — он от меня никуда и не уйдет не уедет… «До скольки часов сельсовет работает?» — опять он свое. Тут уж я начала понимать, зачем он про сельсовет спрашивает, и думаю про себя: да разве в этом дело?! «Нет, нет, — он мне отвечает, — я хочу уехать твоим мужем, а тебя здесь оставить своей женой. А когда родится сын — очень ему хотелось сына, — чтобы он носил мою фамилию. Пойдем распишемся и — никаких!» И так-то он горячо об этом говорит, так хочет, чтобы я поверила, что он не просто так ко мне в сараюшку приходил, что я слушаю его и мне еще горше делается. Потому что я ему и так верю, а оттого, что он говорит и так волнуется, что слезы в голосе звенят и совсем маленьким мальчишкой через эти слезы себя показывает — я его еще больше люблю и, значит, еще трудней мне с ним расстаться… До этого думала, что вроде бы больше-то любить и нельзя, и некуда, а вот тут чувствую, что сердце рванулось к нему через эти нельзя и некуда, и уже не руки, а словно бы оно само хочет удержать его рядом и никуда не отпускать… Нет, так мы и не пошли в сельсовет. Оно, может, и надо бы: скольких трудов мне потом стоило записать Колю на его фамилию! Васильков — это по отцу. Потому я сразу и поняла, что вы — от Коли… Да, не пошли в сельсовет. Очень жалко мне было те малые часы, какие нам оставались, тратить на хождения. А еще и глупая девчоночья гордость, что ли: мол, ты ко мне с открытой душой — и я тебе тем же хочу отплатить, я тебе верю, и, когда вернешься, мы и распишемся. А сейчас не хочу тебя этой росписью связывать-привязывать. Хочу, чтобы ты сам по своей воле и желанию вернулся. Помни, есть дом, где тебя ждут. Вот только это и помни, и больше ничего…

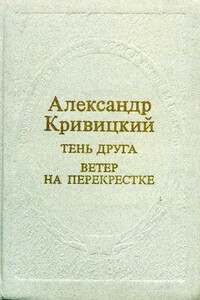


![Несмолкаемая песня [Рассказы и повести]](/uploads/books/images/17/170225f610bf60042998d45e70c85e9a1fc03105.jpg)