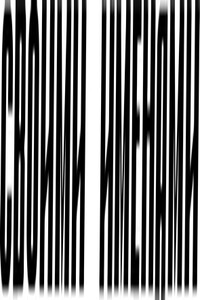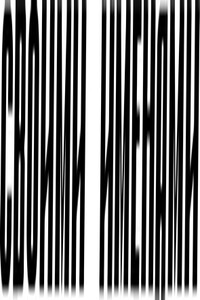Конечно, существуют ситуации, когда мы сталкиваемся с возвышенным в его непосредственности, которая предполагает оппозицию ощущений удовольствия и страдания. И чтобы эта оппозиция не повергла нас в ужас и не привела к коллапсу, мы осуществляем рефлексивное «переформатирование» этого болезненного опыта, придавая ему положительный (или высокий) смысл. Это соединение удовольствия и страдания через возвеличивание или юмор есть пользование «переформатированной» реальностью, вышедшей за рамки непосредственного ощущения удовольствия и страдания, позволяющее людям парадоксальным образом «знать» не то, что они «делают». И именно это «знание» дает возможность идеологиям выйти за рамки непосредственного политического мира как реальности.
Для того чтобы произошла сублимация созданных человеческой рефлексией смыслов «переформатированной» реальности, идеологии должны предложить человеку такие объекты, которые выходят за рамки обыденного порядка вещей. Такие сублимированные объекты идеологий становятся «производителями» значений и смыслов самой идеологической системы – например, «народ» для нацизма, «пролетариат» для марксизма, «свободный индивид» для либерализма и т. д. Как зеркальное отражение возникают сублимированные объекты со знаком «минус»: «евреи», «буржуазия», «террористы» и т. д. Логика формирования таких сублимированных объектов идеологии напоминает кантовскую логику рефлексии возвышенного, которая явилась парадоксальным результатом реальной «мелкости» субъекта перед лицом истинного величия природы или духа, но благодаря «вторичной саморефлексии» образ этой реальности поднимается выше самой реальности. И парадокс состоит в том, что такого «наглого» проявления самонадеянной человеческой рефлексии по отношению к истинному величию не произошло бы, если бы индивид был соизмерим с грандиозностью того объекта, который превосходится «вторичной рефлексией» (никому же не приходит в голову искать высокий смысл пылесоса, например).
В связи с этим справедливость марксистской «критики идеологии», на первый взгляд, получает дополнительные аргументы в свою пользу. Однако следует отметить, что сама эта критика покоится на серьезном допущении о всеобщем человеческом незнании и заблуждении, которое «чудесным образом» развеивает марксистская методология. И даже если допустить, что люди не осознают, что они делают, а в случае с идеологиями – с чем они себя идентифицируют, это только часть айсберга. Ибо идеологии (о чем уже писалось выше) нельзя считать описательными теориями, а значит, идеологии не могут содержать в себе как истинные, так и ложные суждения с позитивистской точки зрения.
Если исходить из оппозиции осознанного понимания и неосознанной веры, было бы неоправданным упрощением поместить идеологию в сферу бессознательной веры. Если идеология и есть «политическая вера», то достаточно специфическая. Такая политическая вера имеет определенную материальную и интерсубъективную структуру. Субъект идеологии всегда верит «посредством другого/других» или посредством какой-то конкретной, «материальной» инстанции, господствующей в той или иной политической системе координат. Идеологическая вера имеет рефлексивную структуру, соответствующую интерсубъективному пространству: «Я верю в Идею (национальную/либеральную/социалистическую и т. д.) как реальность» означает «Я верю, что другие (члены "моего" сообщества) верят в эту же идею как реальность». Для успешного функционирования идеологии люди должны быть уверены (или обнадежены), что кто-то еще разделяет с ними веру в то же самое.
Из сказанного выше следует, что первостепенная функция политических лидеров – символизировать тех самых «других-таких-же-как-я» знающих и верящих, воплощающих в себе более глубокий смысл «политической системы» вне ее прозаической повседневности и рутины. В этом смысле публичная идентификация политического лидера со своей официальной позицией может оказаться имплицитным отказом от индивидуальной ответственности. Идеология выступает как символический порядок, согласно которому индивиды носят определенные «маски»,