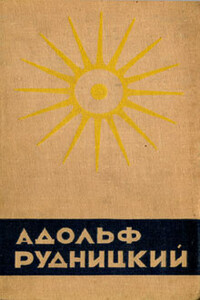Когда касса открылась, мы были первыми и единственными покупателями. Буднично купив билеты на Запад и не удостоившись взгляда таможенников, знавших, что после русского шмона им нечего делать, мы сели в поезд и отправились в путь, считая границы. В Чехословакии мы купили через окно горячую сосиску – здесь еще брали наши последние рубли. Только к ночи поезд пересек австрийскую границу. Аграрный пейзаж не изменился, но я все равно высунулся в окно и втянул в себя воздух. Пахло навозом.
В Вену мы прибыли глухой ночью в состоянии полной эйфории. Стоя на перроне в чужом городе незнакомой страны с 17 чемоданами и полоумной тетей на руках, мы смеялись и обнимались, пока не пришел полицейский.
– О, полицай! – закричали мы и обняли его тоже.
В участке все быстро выяснилось, и нас отправили на такси в пансион «Zum Türken», где собирали других предателей. От переживаний жена заговорила с шофером на безупречном немецком, который с прохладцей учила в школе. Пораженный произношением венский таксист растрогался и решил прийти ей на помощь:
– Фройляйн, я же вижу, что вы – волжская немка. У нас, на свободе, вам больше незачем скрывать происхождение. Бросьте этих евреев, – сказал он, ткнув пальцем на заднее сидение, – и живите на всю катушку.
3
Вернувшись в Ригу через треть века, я обнаружил, что мой квартал изменился лицом. Магазин модных платьев, который безо всяких на то оснований назывался «Лотосом», переродился в бутик. Гастроном, где по ночам второгодник Максимов с завидной прибылью торговал водкой, больше не держит спиртного. В книжном магазине литературу и детективы продавали в разных разделах, второй, естественно, больше. На месте пышечной, но все в той же декоративной избе расположился ночной бар «Аризона». Проходной двор вырос в молл. Магазин с хомутами торгует эротическим инвентарем. Пункт по приему утиль-сырья, куда я в пионерском раже таскал макулатуру, стал киоском и продавал то, что раньше покупал. В бомбоубежище устроили тир. «Палладиум» обветшал, но там все еще показывали американские фильмы. Исчезли очереди у водочного магазина, уставленного «Рижским бальзамом» («Неужели люди пьют его добровольно?» – спросил меня американский приятель). Нет больше «Приема стеклотары», куда мы ходили через день, а по понедельникам дважды.
Но дом остался. Разлука его преобразила, хотя на первый взгляд ничего не изменилось. Серый и незатейливый, он по-прежнему лишен тех архитектурных излишеств, которые делают Ригу неотразимой. Здесь не было ни средневековых башенок, ни завитушек купеческого барокко, ни рубленных девизов протестантской этики (Labor Omnia Vincit), ни самодельной мифологии ар нуво, ни стилизаций кирпичной готики, ни социалистических звезд, снопов и рогов изобилия. Собственно, на фасаде вообще ничего не было, кроме цемента и окон без наличников. Однако именно это обстоятельство и делало его минималистским памятником функционального зодчества, провозгласившего орнамент преступлением. Теперь мой дом красовался на всех открытках, но он уже был не моим.
Зайдя для разгону во двор, я узнал только липу. Она стала еще старше, но сохранилась лучше меня. Лужа высохла, мусор убрали. Хибару дворника запирала стеклянная дверь с непонятной, а значит финской, табличкой. Зато машина была шведской – «Volvo», и хозяин на меня вежливо косился.
– Я сюда каждый день выбрасывал мусор, – объяснил я, и он перестал улыбаться.
Махнув на него рукой, я свернул в родной подъезд, но уперся в цифровой замок, куда уже не сунешь универсальную открывалку – двухкопеечную монету, да и откуда она у меня возьмется?
Найдя на табло квартиру номер 9, я нажал кнопку и, услышав «Ko, ludzu?», сказал по-английски, что жил здесь раньше.
– Not anymore, – ответил домофон, и я, не став спорить, отправился домой, за океан, убедившись в том, что там мне и место.