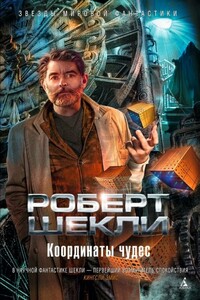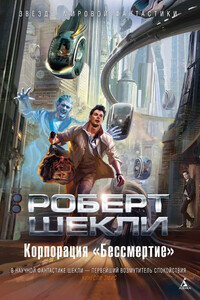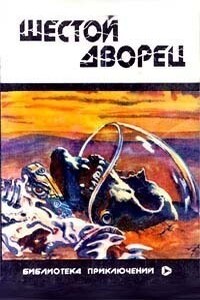— Просто хотел напомнить: возвращайтесь, когда захотите еще. До скорого, красавец.
— Пока, уродец. — Лорк толкнул дверь. В ночной прохладе замер на верху лестницы, склонил лицо над сложенными в пригоршню ладонями, глубоко вдохнул. — Мыш, ты. — Поднес руки ближе. — Понюшка за мой счет.
— Что надо делать?
— Глубоко вдохни, подержи немного, потом выдыхай.
Мыш нагнулся; упала тень — не его, чужая. Мыш подскочил.
— Спокойно. Что у нас тут?
Мыш поднял, а Лорк опустил глаза на патрульного.
Лорк прищурился и показал ладони.
Патрульный, решив пренебречь Мышом, глядел на Лорка.
— Ого. — Завел нижнюю губу за верхние зубы. — Что-то могло бы это опасное быть. Незаконное что-то, сечешь?
Лорк кивнул:
— Могло бы.
— В этих местах осторожней надо.
Лорк снова кивнул.
И патрульный.
— Скажи, чуток закон обогнуть позволишь?
Мыш узрел улыбку, которую капитан еще не выпустил на лицо. Лорк протянул руки патрульному:
— Смелее, оторвись.
Тот скрутился, всосал вдох, выпрямился.
— Благодарю. — И убрел во тьму.
Мыш посмотрел ему вслед, потряс головой, пожал плечами и, глядя на капитана, цинично сморщился.
Взял Лорковы руки в свои, нагнулся, опустошил легкие, потом наполнил. С минуту не дышал — взорвался:
— И что теперь должно произойти?
— Не тревожься, — сказал Лорк. — Оно уже.
Они пошли обратно вдоль гряды мимо синих окошек.
Мыш смотрел в речку яркого камня.
— Знаете… — сказал он чуть погодя. — Жаль, что сиринги нет. Я б сыграл. — Они почти добрались до лестницы с залитыми светом уличными кафе. Звенела музыка из усилков. Кто-то за столиком уронил стакан, тот кокнулся о камень, звук сгинул под натиском аплодисментов. Мыш глянул на руки. — От этой фигни пальцы чешутся. — (Они поднимались по ступенькам.) — Когда я был пацаном, на Земле, в Афинах, там была точно такая же улочка. Одос Мнисиклеус — через всю Плаку. Я работал в паре мест в Плаке, знаете? «Золотая тюрьма», «О кай И»[12]. Идешь вверх по ступеням от Адриану, а впереди и вдали — задний портик Эрехтейона в прожекторах над стеной Акрополя. И люди за столиками по обе стороны улицы, они бьют тарелки тоже и смеются. Вы бывали в афинской Плаке, капитан?
— Один раз был, очень давно, — сказал Лорк. — Где-то в твоем возрасте. Но всего один вечер.
— Тогда вы не знаете маленькие кварталы Плаки. Раз всего один вечер. — Хриплый шепот Мыша набирал обороты. — Вы идете по этой улице, по каменной лестнице, пока ночные клубы не иссякнут и не будет ничего, кроме грязи, травы, камней, но вы все равно идете, и руины торчат над этой стеной. И приходите в место именем Анафиотика. Это значит «маленький Анафи», вот. Анафи — остров, его почти уничтожило землетрясение, давным-давно. А там каменные домики, жмутся к горе, и улицы восемнадцать дюймов в ширину, и ступени такие крутые, как на стремянку лезешь. Я знал парня, у которого там был дом. Я заканчивал работу и веселился с девочками. Еще вино. Даже пацаном я находил девочек… — Мыш щелкнул пальцами. — Забираешься на крышу по ржавой спиральной лестнице у входной двери, сгоняешь котов. Потом мы играли, пили вино, глядели на город, он разостлан по горе, как ковер из света, спускается и перебирается на другую гору, на вершине — маленький монастырь, осколок кости. Как-то мы играли слишком громко, и старушка из дома выше швырнула в нас кувшин. А мы над ней посмеялись, поорали на нее и уговорили спуститься к нам и выпить вина. И небо уже серело — за горами, за монастырем. Мне там было хорошо, капитан. И здесь мне хорошо. Я теперь играю куда лучше, чем тогда. Потому что играю реально много. Я хочу играть то, что вижу вокруг. Но вокруг столько всего, что я вижу, а вы нет. И это я тоже должен играть. Если нельзя что-то потрогать, это не значит, что нельзя понюхать, поглядеть, послушать. Я схожу с одного мира, восхожу на другой, мне нравится то, что я вижу на всех мирах. Знаете, каков изгиб твоей руки в руке того, кто для тебя важнее всех на свете? Вложенные друг в друга спиральные галактики. Каков изгиб руки, когда другой руки нет и ты пытаешься ее вспомнить? Единственный в своем роде. Я хочу играть их, один с другим. Кейтин говорит, я боюсь. Боюсь, капитан. Всего вокруг. Что бы я ни увидел — таращу глаза, сую пальцы и язык. Мне хорошо сегодня, значит я должен жить в страхе. Потому что сегодня — страшное. Но я хоть не боюсь пугаться. Кейтин — он весь смешан с прошлым. Ну да, прошлое творит сейчас, как сейчас творит завтра. Капитан, рядом с нами ревет река. Но водопой у нас только в одном месте, это место — сейчас. Я играю на сиринге, вот, и это как приглашение всем вокруг — прийти и пить. Я играю и хочу, чтобы все хлопали. Просто когда я играю, я там, наверху, вместе с канатоходцами, балансирую на пылающей кромке безумия, где еще пашет разум. Танцую в огне. Когда я играю — веду всех танцоров туда, куда вам, и вам… — Мыш показывал на прохожих, — и ему, и ей без моей помощи не добраться. Капитан, тому три года назад, когда мне было пятнадцать, в Афинах, я помню одно утро на той крыше. Я прислонился к остову виноградной беседки, сияющие листья винограда на щеке, свет города глохнет в зареве зари, и танцы прекратились, и за моей спиной две девочки целуются в красном одеяле под железным столом. И вдруг я спрашиваю себя: что я тут делаю? А потом спрашиваю снова: что я тут делаю? И слова — как мелодия в голове, звучат опять и опять. Капитан, я