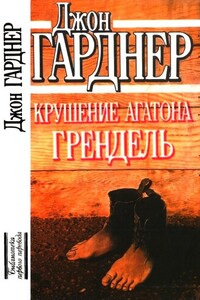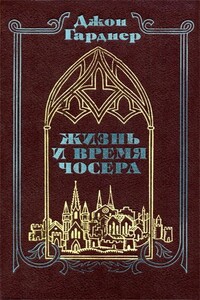Вскоре черный Нгуги еще раз выказал потрясающую человечность. Когда Вольф и Уилкинс с мятежной свитой поднялись из трюма на палубу (почти все с каменными лицами, лишь кое-кто улыбался, точно сдуревший осел), черный гарпунщик — он оставался наверху — шагнул им навстречу, перед собой он за оба конца держал топор. Уилкинс как бы ненароком взял наизготовку мушкет. Черный великан что-то сказал ему и указал на меня. Глаза его еще источали пламя, но речь, по-видимому, была мирной. Уилкинс и Вольф ему ответили, но так тихо, что я ничего не разобрал. А вокруг недвижный воздух был полон запахами земли, хотя земли не было. Руки у меня, туго стянутые обледенелыми веревками, онемели. Глаза слезились.
Ко мне подошел Вольф, сзади него Уилкинс. Вольф сказал, вежливо, как странствующий проповедник, но без убеждения — скорее автомат, чем живой человек:
— Мистер Апчерч, вашей обязанностью будет позаботиться о дочери капитана.
И, не произнеся больше не слова, разрезал мои веревки. Сначала я не мог сдвинуться с места, ноги у у меня были каменные. Он стоял и ждал. Уилкинс у него из-за плеча подмигивал мне и улыбался, кривил и растягивал рот. Вращая выпученными глазами (я все еще изображал негра — на случай, если именно это послужило к моему спасению), я, как только смог, волоча плохо слушающиеся ноги, поднялся по трапу на ют и вошел в капитанский салон. Здесь нашелся фонарь, масло и фосфорные палочки, и скоро помещение было освещено ярче, чем когда-либо при мне прежде. Все оставалось на своих местах. На шахматной доске ждали капитана расставленные фигуры.
Не стану подробно описывать, какую картину осветил мой фонарь во внутренних капитанских покоях. Я ни разу не бывал дальше полутемного салона, где занимался с Августой — Мирандой. Сюда выходили две каюты, не считая штурманской рубки: спальня капитана и спальня его дочери. В каюте капитана все было изорвано и разбито. Койка изрублена топорами, рундук взломан, капитанские пожитки разбросаны от одной переборки до другой. На полу, полузасыпанный перьями из вспоротой перины, валялся портрет Флинта. Пристальный взгляд, свирепая линия рта под черными усами заставили меня содрогнуться: если бы я раньше хоть раз поддался гипнотической силе этого дьявола Флинта, я бы, верно, и теперь подпал под его воздействие. Не для того ли Флинт и повесил этот портрет у Миранды, чтобы не выпускать ее из-под своей власти? Вокруг головы на портрете было изображено сияние, как у Иисуса, только церковные портреты манернее: глаза виновато закачены, руки воздеты в молитве, словно подымают невидимую завесу, идя навстречу пожеланиям зрителя, зря его не затрудняя, — почтительные, как натюрморт, как ваза с бледными лимонами. Я поднял портрет с полу, по-прежнему стараясь глядеть вбок. Но все равно почувствовал, как меня охватывает странная сонливость, и поспешил выпустить полотно из рук, точно гадюку.
Во второй комнате я нашел Миранду. Она лежала, застыв в немом бешенстве, под подбородком — сжатые кулачки, разодранное платье — как окровавленные лохмотья лунного света. Вся в синяках и ушибах. Глаза расширены от страха.
— Миранда! — забывшись, со стоном выговорил я и опустился подле нее на колени.
Глаза ее еще больше расширились. Она прошептала: С каких пор ты знаешь?
— С самого начала. — Это была отчасти правда. Где Иеремия? — спросила она.
— Исчез. Убит, вне всякого сомнения.
Она закрыла глаза, испуганно спряталась внутрь себя, безжалостная Миранда Флинт, наконец-то теперь виноватая. Я сжал ей руку. Она не пожелала очнуться.
XXIV
Вольф стоял над шахматной доской капитана, словно размышляя о том, как закончить партию. Он говорил, как всегда, гнусаво и книжно:
— Капитан не понимал природу власти.
Он ухмылялся, поверх очков глядя на доску и двумя пальцами закручивая конец уса. Уилкинс сиял, ему явно нравилась декламация Вольфа, хотя не думаю, чтобы он был согласен с ним по существу. А Вольф — руки в боки — профессорским тоном продолжал, не отводя глаз от шахмат:
— Он употреблял свою власть неограниченно и в этом был прав — но не сознавал того, что надо придавать своей деятельности видимость заботы о благе всего корабля. Благо всего корабля в целом, надо было внушить команде, ценнее, чем жизнь любого из ее членов. Корабль — это особое существо, у него есть свое предназначение, недоступное нашему уму, а каждый из нас — всего лишь клетка в его организме. Скажем, капитан — это мозг, надо им объяснить, но и мозг служит целому. Долг каждого на корабле — необходимо было, чтобы они это ясно поняли, — безоговорочное подчинение. Корабль — это Отец, — он заговорил решительнее, отрывистее. — Нужды корабля — наша религия, и любой отход от этой религии следует встречать со строгостью и не давая ни малейшей воли воображению. Вы удивлены, мистер Апчерч, мистер Жонглер-Словесами? А ведь я говорю дело. Если дать волю воображению, то можно дойти до сочувствия даже киту. «Как он величав! — кричит нам воображение. — Как огромен, как могуч!»