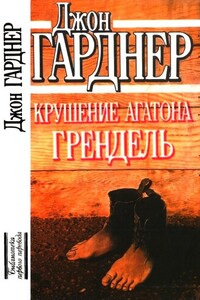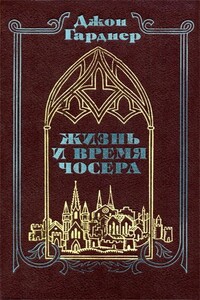Я видел все казни. Мятежники, начинавшие с одними топорами и топорищами, разграбили каюты и были теперь вооружены порохом и мушкетами. Снова оказавшись на палубе, они поспешили к кубрику. Люк в него был задраен и запечатан коркой льда, по обе стороны стояли на часах два мятежника с топорами; еще двое стояли поблизости. Внизу содержались те, кто сохранил верность капитану — одни потому, что у них в самом деле было верное сердце, но большинство из-за своей убежденности в том, что мятеж обречен на провал. Мистер Вольф, второй помощник, взломал топором ледяную печать и крикнул:
— Эй, в кубрике! Вы меня слышите? Поднимайтесь сюда по одному! Да поживее. И чтоб не ворчать у меня! — Прошло несколько минут, прежде чем в люке появилась первая голова — это был матрос-англичанин. Он плакал и жалобно просил помощника сохранить ему жизнь. Вольф ударом топора расколол ему череп. Бедняга упал на палубу без единого стона, алая кровь его дымилась, а китаец-кок поднял тело под мышки и сбросил рыбам. Мистер Ланселот побледнел. Все произошло так быстро, что не было времени вмешаться, но теперь он в гневе подскочил к мистеру Вольфу, попытался отнять у него топор. Билли Мур шагнул вслед за ним. В одно мгновенье на них набросились два вооруженных негра, стали теснить их мушкетными дулами, и Вольф пошел на них с занесенным за плечи топором. Мистер Ланселот, глазам своим не веря, попятился, но его прикончил мушкетный выстрел. Билли Мур возмущенно вскрикнул — второй мушкет заставил замолчать и его.
— Не будешь больше вмешиваться! — орал Вольф. — Кончилась твоя власть!
Сам он был низкорослый, почти карлик, и в очках; прямые желтые волосы бились у него за плечами, словно под ними трепыхались вспугнутые птицы, а ноги, как у пьяного, путались в полах меховой шубы, которую он сорвал с капитана. Два изувеченных трупа лежали, касаясь один другого. Эти двое были ни за, ни против; истинные демократы, они предоставили событиям идти своим чередом, а когда дошло до убийства (кто бы подумал, что Вольф станет так самоутверждаться?), оказались бессильными что-либо изменить.
Шум на палубе насторожил тех, кто еще оставался в кубрике; теперь уже ни угрозами, ни посулами на удавалось выманить их наверх. Тогда Уилкинс сказал своим громким, высоким голосом, пригнувшись к самому люку и насмешливо скосив и прищурив черные, заплывшие, узкие, как бритва, глазки:
— Почему бы их не выкурить, а?
В ответ узники предприняли атаку, и какое-то мгновение казалось, что судно перейдет к ним в руки. Однако мятежники изловчились закрыть люк, когда на палубу успело выскочить всего шесть человек, и те, убедившись, что противник настолько превосходит их числом, пали духом и сдались. Вольф говорил с ними вежливо, зная, что его слышат в кубрике. И остальные не замедлили подняться. Они выходили по одному, их тут же хватали и связанными бросали на палубу — общим числом четырнадцать человек.
А потом была бойня. Связанных моряков одного за другим волокли к борту, где у трапа стоял китаец-кок с топором и, неуклюже размахиваясь, проламывал каждой жертве череп. С кляпом во рту я поднял голос протеста, но крики мои остались не услышаны — они звучали тише шепота по сравнению с отчаянными воплями обреченных. Когда семеро таким образом уже очутились за бортом, к китайцу молча подошел черный гарпунер с костью в носу и произнес: «Больше — нет». Кок покосился на него, злобно, но испуганно, и обратился за приказаниями к Вольфу. В то же мгновение все с тем же царственным спокойствием, с каким он разил кита, гарпунер ударил кока сжатым кулачищем по виску, словно молотом по наковальне, и кок, корчась, упал на палубу. Через минуту он был мертв. Четыре раба, из них двое в кандалах, подошли и встали рядом с гарпунером, готовые начать новый мятеж, хотя все их оружие было четыре топорища. Вольф и Уилкинс, перепуганные до полусмерти, сразу же изменили тактику.
— Довольно, — сказал Вольф. — Остальных швырнуть в трюм, к капитану!
Связанный, с кляпом во рту, я смотрел, как мятежники и освобожденные ими рабы тащат прочь своих пленников. Иеремии все это время нигде не было видно. Я решил, что его тоже убили.