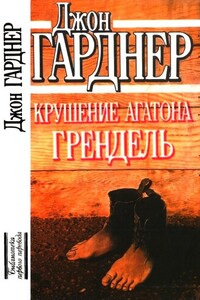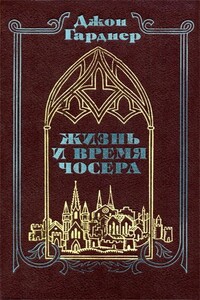— В этот раз он не так рвется в погоню?
— За китом — нет. Но, конечное дело, его хвори…
— Так он хворый?
Но Билли Мур уже все сказал.
Только теперь я увидел в сумраке у него за спиной Уилкинса — тот сидел и ковырялся в пружинах и колесиках разобранных настенных часов и слушал в оба своих огромных обезьяньих уха. Он работал в почти полной тьме — то ли искуснейший в мире часовщик, подумал я, то ли притворщик, делающий вид, будто полностью поглощен своим занятием. Впрочем, у меня сомнений не было. Билли Мур, увидев Уилкинса, побледнел как призрак.
IX
Я должен и намерен был разгадать тайны «Иерусалима»: пение, которое я слышал в первую ночь на борту (с тех пор о неграх в трюме не было ни слуху ни духу), и, еще более невероятное, голос, который тогда до меня донесся — или мне примерещился, — голос женщины. (Этот голос преследовал меня наяву и во сне, как некогда взгляд Миранды Флинт, хотя, видит бог, это не был голос бродячей циркачки, он принадлежал благородной даме. Взаимоисключающая связь, при всей моей молодости и неопытности, была мне ясна. Как раньше я обожествлял бедняжку Миранду — преображая ее то в ангела, то в демона во плоти, покуда она не выросла и я остался в дураках, — так теперь на основе смутно слышанного голоса я построил другой неземной образ, образ существа, которому так же не место в нашей действительности, как индейской коронованной принцессе не место на борту «Иерусалима». Я сознавал, что фантазирую, но остановиться не мог и при этом говорил себе совершенно разумно, что женщина на судне, хотя бы и одноногая калека, — это, черт побери, загадка, и я должен в интересах собственной безопасности разрешить ее, если сумею.) Я лежал у себя на койке, прикрыв глаза и настороженно вслушиваясь в сонное дыхание матросов, и рисовал в воображении лицо той, которой принадлежал голос. Кажется, это была любовь. Болезнь в крови, проклятие молодости; радость и горькое унижение.
Когда я убедился, что весь корабль, кроме вахтенных, спит, я вылез из койки и в темноте пробрался к трапу. Ощупью я стал двигаться к корме, туда, где был люк, сквозь который я видел тогда чернокожих. Нигде не проблескивал ни один огонек — Ионе в китовом брюхе не было темнее. Я миновал поворот, откуда падал в ту ночь свет лампы, прошел дальше мимо кают, но неожиданно наткнулся на полированную переборку, совершенно загораживающую дальше проход. Я растерялся. С одной стороны, меня тянуло туда, откуда мне слышался женский голос, с другой — хотелось все же разыскать люк, сквозь который я видел негров. У меня под ногами не было ни кольца, ни свежей доски и вообще ни малейших признаков отверстия в настиле. Я должен был доказать себе, что не бредил, не сошел с ума; забыв про таинственный голос, я опустился на четвереньки и стал прислушиваться, не доносится ли из трюма музыка.
На море был штиль, «Иерусалим» казался недвижнее обомшелой усыпальницы. «Удивительные дела! — сказал я себе. — Если бы здесь уложили новый настил, я бы слышал по крайней мере стук». На минуту я вернулся к мысли, что все это мне, может быть, просто приснилось; но я ведь умел отличать сон от обыкновенной мелодрамы. (Не хочу сказать, что театральные представления вредны, но они заставляют человека принимать позы, которых мы не наблюдаем в природе, это мне известно по собственному, пусть и жалкому, опыту.) Рабы сидят в трюме, это факт, и еще где-то на этом корабле находится юная дева — быть может пленница, многострадальная красавица принцесса или… усилием воли я остановил себя, вовсе не желая, чтобы ночь подслушала мои догадки. Под тем сомнительным предлогом, что, в растерянности крутясь на месте, я мог спутать направление, я стал продвигаться дальше к носу, хотя и знал, что ничего не спутал (опять спектакль). Я уже убедился, что ползу не туда, как вдруг неожиданно набрел на открытый люк, откуда слышались голоса. Трое, простые матросы, как мне показалось по выговору, разговаривали о капитане. В речах их было много чувства — страха и гнева, насколько я мог понять, — но говорили они вполголоса, и до меня доносились лишь обрывки фраз, главным образом ругательства, и один раз мне послышались слова: «Отомстим за него!» Кто они такие, я понятия не имел, и за чьи обиды они хотят отомстить капитану — тем менее, однако, было очевидно, что от этих свирепых людей мне следует держаться подальше. Я попятился прочь, поднялся на ноги и быстро пошел по направлению к корме.