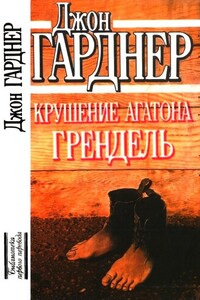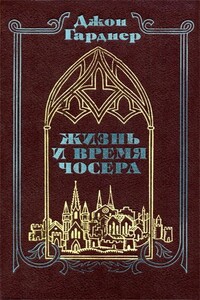Лишь только я поднялся на кормовую галерею, куда выходило окно капитанской каюты, странным образом затянутое, как мне показалось, алым бархатом, схваченным золотыми кольцами — достаточно удивительная подробность для китобойца, — как вдруг раздался звук, от которого развеялись и канули все мои умствования. Я еще не понял, что это за звук — может быть, даже рев тропического тигра, таким ужасом он во мне отозвался, — как из полутьмы на меня набросился какой-то огромный зверь, опрокинул меня, навалившись лапами мне на плечи, и вместе со мной, лязгая зубами, свергнулся вниз по трапу, на твердую, как камень, палубу. Я упал и замер, недвижный, точно надгробье. Ни охнуть, ни шелохнуться я не мог. Бешеные глаза зверя сверлили меня, в темноте белели оскаленные клыки. Стоило мне чуть-чуть, непроизвольно, дернуться, как из его глотки сразу же вырвался новый рык, подобный громам небесным. Вдруг вверху на капитанском мостике появился свет и женский голос властно позвал: «Аластор!» Рев изменился — стал ниже тоном, утратил свирепость, — и вот уже чудовищный пес (ибо это была собака, хотя таких огромных я в жизни не видывал) отпустил меня, подобрался и взлетел вверх по трапу к хозяйке. Она стояла не двигаясь и смотрела вниз на меня, и душу мою затопил стыд. При виде ее померкли все мои жалкие, смехотворные фантазии — она была столь прекрасна в свете фонаря и мигающих звезд, что я тоже замигал, желая убедиться, что не сплю. Рядом с нею чернобородой жабой стоял капитан; он молчал. Я попытался сказать что-нибудь, может быть, попросить прощения, но не мог произнести ни слова. С минуту, наверное, они молча стояли и сверху смотрели на меня. У меня перехватило дыхание, лицо мое пылало горячим и, вполне могло статься, последним в жизни румянцем. Наконец, они повернулись — она поддерживала его, словно инвалида или лунатика, на нетвердых, несгибаемых ногах, сама грациозная и равнодушная, как богиня, — и удалились. Я, задыхаясь, хватил ртом воздух.
Голос, мне уже знакомый, произнес:
— Будешь совать нос не в свое дело, сидеть тебе в колодках, приятель. Он ведь хуже черта, когда обозлится, капитан Заупокой.
Я повернул голову, чтобы разглядеть того, кому принадлежал голос (я слышал его в первую ночь, когда лежал в каюте). Должно быть, этот человек все время находился поблизости, прятался от взгляда в тени. Теперь он склонился надо мной. Лицо его было трудно разглядеть в обрамлении ночи, но я видел, что на скулах и в ушах у него, как у старого индейца, росли густые космы волос, свободно ниспадая на грудь. Они были белые как снег. Опять загадка! Человеку такого преклонного возраста так же не место на китобойце, как и женщине.
— На, приятель, держи руку, — прохрипел он, словно забавляясь моей дуростью, и протянул мне большую узловатую ладонь. И снова меня пробрало тревогой: по его ощупывающему прикосновению я понял, что он слеп.
— Кто вы такой? — спросил я, приподнимаясь на локте. — Кто вы все такие? Куда, мы, черт возьми, плывем? — От напыщенно-театральных звуков моего собственного голоса (окрашенного, как мне казалось, густыми философическими обертонами) страхи мои только возросли. Что это за судно? — спрашивал я. Я стал говорить громче, безмолвие на борту повисло вокруг, как черные драпировки в зале, где должен начаться спиритический сеанс. Вопросы мои, такие для меня важные, звучали неубедительно, словно строки из давно заученной роли. — В какой порт это судно направляется? Где я смогу сойти на берег?
— Не все сразу, приятель, — отозвался старик. Он нащупал наконец мою руку и с неожиданной силой поднял меня на ноги. Нажимая ладонью мне на плечо, он повернул меня лицом к люку. Я сделал один шаг, но остановился. Он отпустил мое плечо. И, помолчав, продолжал: — Кто такой я, например, ты, верно, уж понял. Я — безумец, зовусь Иеремия, плавал когда-то первым помощником с капитаном д’Ойарвидо на доброй шхуне «Принцесса», что открыла Невидимые острова в южной части Тихого океана. А другие здесь, кто они, этого никто с точностью сказать не может, ясно только, что они мертвецы, праведники, восставшие из мертвых.