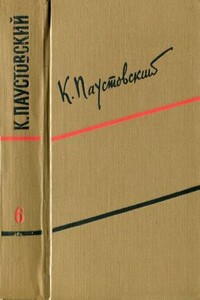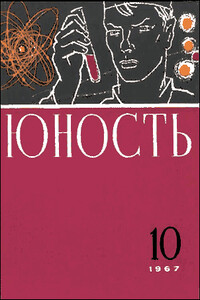— Это мне, что ли? Не нуждаюсь, — сказал Витька. Немец дунул в вертушку и радостно засмеялся. Потом подул в свистульку и снова придвинул игрушки к Витьке.
— Ну ладно, пристал как банный лист, — собрав игрушки, Витька показал их матери.
— Глянь ты! — поразилась она. — У нас точно такие дед в деревне делал из дягиля. Как будто научили друг дружку!
Валдис ждал Витьку за сараями. Он стал дуть то в свистульку, то в трубку. Потом вставил в рот сразу все вместе, и получился разноголосый свист.
— Батя сделал или сам? — спросил он у Витьки.
— Немец. Я не хотел брать, но пристал так, что не отвяжешься…
— Так я принес, как договорились, — вспомнил Валдис.
Он достал из кармана аптечную бутылочку с сероватым порошком. Витька взял пузырек, деловито потряс его и поставил на кирпичи.
Рядом с пузырьком лежала вертушка и свистульки.
— А он еще что-нибудь умеет делать? — спросил Валдис.
— Наверное, раз это умеет.
— Я вот думаю, — сказал Валдис. — Может, его оставили тут не потому, что он шпион? А потому, что не такой немец, как другие, а?
— Может, и так, — согласился Витька. — Разве его поймешь?
— Тогда пока не будем подсыпать, — предложил Валдпс. — Ты за ним пока просто следи. Только незаметно.
— А с этим как? — Витька показал на пузырек.
— Это можно выкинуть. У нас дома много. Отец купил. Знаешь, сколько у нас тараканов? На счетчике даже цифр не видно. Маленькие такие тараканы, желтые.
— Это не тараканы, а прусаки. Тараканы черные.
— Ну прусаки, все равно.
Витьке пришло в голову влепить пузырьком в стену, чтобы посмотреть, как будет разлетаться в стороны порошок, и Валдису эта мысль сразу понравилась.
Через несколько дней Витька пошел в школу. Дети в классе были самого разного возраста — некоторые пропустили за войну четыре года учебы. Уроков было много, и Витьке часто приходилось подолгу задерживаться в школе. То, что Витька не успевал по дому, делал за него немец. Он был по-прежнему улыбчивым, услужливым и молчаливым. Его приспособили стоять в очереди за солью, мылом или сахаром. Мать брала из кухни светлую, крашенную масляной краской табуретку, шла с дедом к магазину, спрашивала, кто последний, ставила табуретку на тротуар и возвращалась делать домашние дела. Немец помаленьку продвигался вместе с табуреткой к прилавку, а потом подходила мать. Немец считал выстаивание очереди своей важной обязанностью, и если его долго не водили к магазину, показывал пальцем на табуретку, тыкал в сторону двери и спрашивал: «Дают, дают?»
Немец любил вытирать тряпкой стол, вырезал из диктового листа несколько кружков для кастрюль. Если же ему нечего было делать, он сидел просто так на теплой кухне, смотрел, как мать стирает, варит обед, ходит по щелястым скрипучим половицам, припадая на негнущуюся ногу. В северном городе к матери часто заходила какая-нибудь соседка, и за работой они успевали о многом поговорить. Здесь, на новом месте, она никого из соседок пока что близко не знала и поэтому разговаривала с немцем. Вернее, говорила одна она, а немец только сидел в уголке и повторял время от времени: «плохо», «хорошо», в зависимости от выражения ее лица, и этого ей было достаточно. Она рассказала немцу и о погибших в первый месяц войны своих сыновьях («с твоими воевали»). Вспоминая сыновей, она никогда не плакала, только бледнела, и глаза у нее начинали стекленеть. Рассказывала она немцу и о том, как упала, поскользнувшись, с полными ведрами возвращаясь с проруби, как неумеха-фельдшерица неправильно наложила шину («врач-то настоящий на фронте был, с твоими воевал»). Иногда она смущенно хвасталась ему, какой была сильной и красивой в молодости, и улыбалась, а немец говорил: «Хорошо, хорошо».
Примерно через месяц пришла домоуправша и принесла направление в дом для престарелых.
— Может, оставим его у нас? — спросил Витька. Мать с отцом пошептались, потом отец подошел к немцу, показал бумагу:
— Надо ехать, Оттович. Мы ведь тебе все же не родные.
Немец уже немного понимал по-русски и смог объяснить, что его отец носил имя Отто. Чтобы не называть немца ненавистным именем Фриц, звали его теперь Оттович.