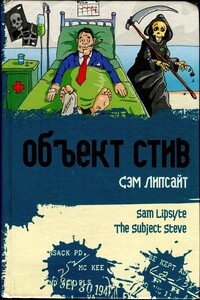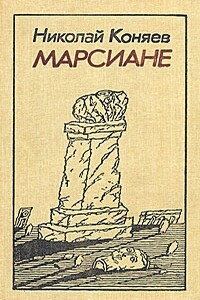Рюкзак он
оставил в автоматической камере хранения на вокзале: мало ли что дома? А дома
действительно ничего хорошего его не ожидало. Мать уже три месяца находилась в
психиатрической больнице в Богданово, что на Кривой версте. “Крыша поехала, —
пуская кровавые пузыри, прохрипел отец, — на вторую ходку уже пошла, едва ли
вернется”. Отец еще более высох и почернел лицом. Был он теперь значительно
тщедушнее Сергея. Видимо, понимая свое незавидное нынче положение, он сразу
стал заискивать перед сыном, окрепшим, в отличие от него, на здоровом
деревенском рационе.
— А ты,
Серега, заматерел, спуску, видно, никому не даешь, а? Давай-ка, сын, это дело
обмоем, родные мы или как?
— Или как, —
буркнул Сергей и пошел по старым знакомым проводить рекогносцировку...
Через две
недели он совершил первую в своей жизни коммерческую сделку: продал содержимое
некоему официанту из ресторана “Аврора”. За все оптом получил двести пятьдесят
рублей. Не забогатеешь, как говорится... А суровая расплата, между тем, ему еще
предстояла.
Вскоре он
устроился на работу в ДПМК, но через восемь месяцев уволился по собственному
желанию (и настоянию отдела кадров — за прогулы). В следующий раз, из МПМК-4,
он уже был уволен по статье. И пошла-поехала карусель: за неполных два года он
сменил пять мест работы... “Вернулся на круги своя”, — сказал про него кто-то
из дворовых пенсионеров, в том, наверное, смысле, что наконец-то оправдал
всеобщие ожидания и подкатился поближе к своей семейной яблоне, от которой
далеко падать не след. Попросту говоря, — стал пить, как было принято в их
семействе.
Сергей так и
не съездил навестить мать, и она, как предсказывал отец, по не совсем понятной
причине умерла в больнице. Но время для него вдруг неимоверно ускорило свой
бег, так, что дни, недели, месяцы сгорали, как полешки в топке маневрового
паровоза. Начался “вокзальный” период его жизни...
Завершались
восмидесятые. На некоторое время вокзал превратился в центр жизни городского
“дна”. “Народ” хотел красивой жизни, о которой успел подсмотреть сквозь
прорвавшийся полог “железной” завесы. Это было мечтание во сне, в процессе
которого разум рождал чудовищ. Вокзальный суррогат “красивой жизни” и был одним
из таких монстров.
— Чем не
Монте-Карло? — философствовал всегда полупьяный вокзальный картежный шулер по
кличке Квадрат. — У нас на бану* все как на подносе: и водка по двадцатке, и
вино по червонцу, и картишки можно раскинуть на “интерес”.
Сергей с
головой погрузился в эту безумную круговерть, создающую иллюзию активной жизни:
менялись декорации в виде поездов дальнего и ближнего следования с безконечной
сутолокой пассажиров-статистов и пассажиров-актеров, в зависимости от того, как
они соприкасались с обитателями здешнего “дна”. “Поезд
“Ленинград-Варшава-Берлин” прибывает на первый путь”, — вещал громкоговоритель,
и кое-кто чувствовал себя причастным к этим странам и городам, и к этим людям,
мелькающим за шторками вагонных окон. Постановки были разные, но сюжеты
сходные, а финалы и вовсе похожие, как у любой заурядной пьянки. Сергей
значительно изменился: постепенно из повелителя темной воды он превратился в ее
обитателя, да и сами его глубины изрядно обмелели и подзаросли камышом. Зло
потеряло в нем активное начало, расползлось и как бы растворилось во всей
совокупности его естества. Он престал быть безжалостным судией и палачом, но и
ко всякому добру тоже оставался непричастным. Его более не мучили желания быть
победителем — привносившие их искусители сгинули, отбросив его как ненужный
материал. Практически исчезли из его жизни и осмысленные сны. Остался всякий
шизофренический бред, навеянный избытком в крови дурного алкоголя. Иногда, по
пробуждении, ему казалось, что видел он ту самую женщину в белом платочке, но
не ясно, как бы сквозь бурлящую человеческую толпу, а может быть, это и было
всего лишь оттиском обычной вокзальной картинки...
Однажды на
перроне он наткнулся на пожилого монаха. Торопясь к месту посадки, тот никак не
мог закинуть на плечо лямку большого брезентового мешка.