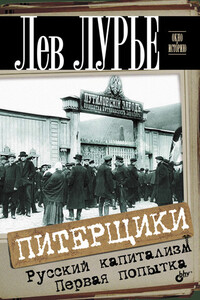Борис Вайль:«В тех местах, где студенты собирались в большие группы, милиция и люди в штатском вклинивались в них и, требуя документы, выгоняли с площади. Так постепенно вся публика рассеивалась с площади и из садика, а приходящие вновь, увидев милицию и солдат, тут же уходили.
Борис Вайль
Вдруг я увидел, как милиционеры заламывают назад руки молодому человеку, который громко цитирует статью советской Конституции о свободе „уличных шествий и демонстраций“. Кажется, это был студент университета Александр Гидони. Он был, конечно, арестован.
Да, мы готовились ко многому, но к тому, что мирная дискуссия о Пикассо будет упреждена милицией и войсками — к этому мы не были готовы.
Впоследствии я слышал, что разгон несостоявшейся дискуссии был согласован ленинградским начальством с Кремлем и что Булганин якобы сказал: „Начинается как в Польше, а кончится как в Венгрии“.
Через несколько месяцев, уже будучи под стражей, я спросил своего следователя лейтенанта Кривошеева:
— Почему вы нарушили Конституцию, не разрешив нам собраться на площади Искусств?
— Лучше нарушить Конституцию, чем допустить кровопролитие, — ответил он».
Ирэна Вербловская:«И вот кто-то стал передавать по цепочке: „Идем в Дом искусств“, то есть в Дом художников, сейчас это Большая Морская улица, тогда она была улицей Герцена, 36. И вот мы тоже громко говорим: „А теперь идем в Дом искусств“, так, чтобы рядом с нами люди слышали. И слышно, как те передают куда-то еще. И вот так совершенно неорганизованно вышли на Невский, не зная друг друга. Сколько нас народу шло, мы не знали. Но тем не менее дружно отправились все туда, на улицу Герцена. А там шло, оказывается, в этот день, обсуждение осенней выставки».
В зале почтенные соцреалисты — авторы полотен о вождях партии, героях войны и труда. Атмосферу скучного собрания нарушает появление десятков возбужденных студентов.
Револьт Пименов:«До того, как туда явилась молодежь, зал пустовал, были разве лишь родственники юбиляра да скучал президиум. И вдруг — валом народ. Председатель расцвел: пользуется-таки искусство популярностью, — охотно стал давать слово желающим. Но выступавшие почему-то все, словно сговорившись, ораторствовали об ином, а не о картинах чествуемого художника и не о выставке. Кажется, единственно, кто упомянул об этих картинах, была студентка консерватории Красовская, которая в их адрес выразилась: „Изобразить задний двор — это еще не значит совершить революцию в искусстве“. Ей картины понадобились как трамплин, дабы потребовать „свободного искусства“ и провозгласить, что „у нас сейчас аракчеевский режим“, в связи с тем, что негде высказываться о Пикассо. Разумеется, ей бурно аплодировали. В зале царило ликование.
Кроме выступления Красовской запомнилось еще: некто лысый бубнил: „Соцреализм — это родная березка на холме“. Некий пенсионер, бывший милиционер, горячо разъяснял: „Кукуруза вполне может стать достойным объектом искусства. Художники обязаны показать, как она растет в полную мощь в одном колхозе, где ее любят и лелеют, и как она гниет в другом, где не понимают важности разведения кукурузы“. Уже не на тему выставки непосредственно перед Красовской говорил студент филфака Алексеев (тот, что позже вместе с женой попал на 10 лет за попытку перехода границы в Иран). У него зазвучали слова: „наше эстетическое отставание“, „сорок лет рабства мысли“, „оторванность от мирового искусства“. Насколько я вспоминаю, нашими делалась запись хода выступлений, но ее дальнейшая судьба мне неизвестна. О какой-то записи мне говорили, но я забыл, была ли она у ГБ или ГБ искало ее».
Юлия Красовская была арестована на следующий день. Ее продержали в тюрьме те двенадцать рабочих дней, в течение которых тогда можно держать в тюрьме человека без предъявления обвинения, а затем выпустили.
Дело антисоветской группы в конце концов развалится. Юлия Красовская за слова «аракчеевский режим» получит лишь несколько суток ареста. Остальные отделаются легким испугом. История с диспутом о творчестве Пикассо обернется анекдотом. Но мораль анекдота будет невеселой: партия снова закручивает гайки.