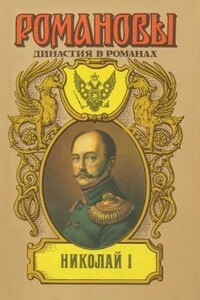В тот год произошёл незначительный, но тем более приятный сбой в природе. Вместо того чтобы с весны блекнуть, вытираться и уже к середине августа превратиться в бледно-серую гадость, небеса всё добавляли и добавляли синего цвета, так что к началу сухого чистого сентября, ещё почти зелёного на уровне щиколотки, вовсю янтарного от плеча и глубокого лазурного в вышине, то есть к самому началу сезона сентиментальная часть брауншвейгского бомонда прямо-таки рыдала от живописнейших ландшафтов и преображённых волшебной кистью панорам. Не осознавая того сами — как, впрочем, и положено цивилизованным дикарям, — жители Брауншвейга и окрестностей как по неслышимой команде вдруг подобрели и благодаря обильным улыбкам на лицах сделались даже более молодыми. Едва ли не господствующим в те недели сделалось чувство неясного предощущения — так, словно бы все предыдущие годы и десятилетия длилось нечто малозначимое, зато вот теперь, начиная с этого божественного сентября, начнётся самая важная глава Истории.
Вместе со всеми, если даже и не больше остальных, радовалась крёстная Иоганны-Елизаветы — герцогиня Елизавета-София-Мария Брауншвейгская, причём дополнительную радость доставлял ей долгожданный выход из растянувшегося на четыре года периода, известного всякой пожившей на этом свете женщине. Четыре года продолжался ад, и она думала, что не переживёт, сойдёт с ума. И вдруг — как отрезало. Состояние какой-то прямо-таки детской стерильности и лёгкости распирало герцогиню, требовало выхода, и потому решение устроить в своём дворце плотненький такой праздник можно считать неплохим выходом из состояния повышенной экзальтации. Да и потом, какой бы толстой ни была мошна, лишний раз зазвать к себе гостей, развлечь их как следует, показать (ненавязчиво так) гостям их место и тем самым потешить своё самолюбие никогда не помешает. Герцогиня подготовилась обстоятельнейшим образом: подновила интерьер своего театрального зала, пригласила двоих осветителей сцены из Берлина, да из числа французов-эмигрантов навербовала до полутора десятков страдающих от недоедания басов, теноров, одного евнуха-баритона и на всякий случай троих драматических актёров.
Через день после начала закрученного без вкуса, но с размахом празднества явились в брауншвейгский дворец и Софи с матерью. Девочка неоднократно бывала здесь — однако всё по будням, и теперь впервые могла увидеть исконно брауншвейгскую, бьющую по глазам и даже не вполне приличную роскошь, оправленную на манер карнавала.
Ощущение праздника возникло сразу после того, как карета миновала внешнюю чугунную ограду дворца, за которой вдоль центральной аллеи двумя шеренгами стояли мраморные статуи, наряженные по случаю торжеств в красочные венки из розовых, красных, рыжеватых и лиловых цветов. При этом сочная желтизна парковых деревьев служила вполне достойным фоном. Около парадного подъезда подуставших, хотя и пытавшихся выглядеть бодрыми, путешественниц встретили разряженные музыканты, соперничавшие новёхоньким одеянием с костюмами лакеев.
Праздник, тем более начавшийся праздник, как известно, ждать не любит, так что пришлось Иоганне-Елизавете буквально перейти с корабля на бал. Танцы, флирт, мужские взгляды — всё приблизительно было, как всегда, с поправкой на стоимость туалетов, обилие драгоценностей и нарочитую роскошь интерьеров.
Маленькой принцессе больше всего понравились крошечные пирожки с курагой, сочинённые приглашённым поваром-арабом, а также вечернее катание на украшенных разноцветными фонариками лодках и особенно фейерверк.
Когда в утыканном звёздами безбрежном чёрном небе взрывались рыжие ракеты, Иоганне-Елизавете приходилось сдерживать себя, чтобы не разрыдаться: огненная игра воздействовала на размягчённую алкоголем женскую душу неотразимо.
Считая целесообразным следовать устоявшейся традиции в том, что касается обязательного разбавления гостей какой-нибудь экзотической фигурой, хозяйка празднества на сей раз пригласила известного в европейских столицах католического монаха Менгдена, человека, снискавшего славу этакого современного Нострадамуса. Менгден определённо был человеком неординарных взглядов, великой учёности, своеобычной внешности и весьма любопытной манеры разговаривать — на грани буквальной истерики: не всякий выдерживал его монологи (диалогическую форму общения Менгден презирал и потому не позволял своим собеседникам даже рта раскрыть), однако те из гостей, кто имел крепкие нервы и не реагировал на истошные завывания монаха, получали немалое удовольствие от содержательной стороны его речей ли, проповедей ли... Правда, тут имел место случай, определяемый словами «хорошая голова дураку досталась»: интеллектуальная мощь и редкостная эрудиция уживались с нарочитым пренебрежением элементарными гигиеническими нормами. За глаза его называли exotique