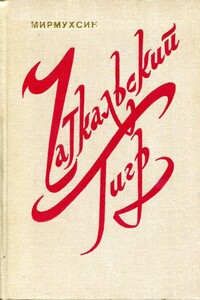Все, о чем говорил Мирхайдар, волновало каждого ташкентца. Вот уж месяц, как Алимкулибек с отрядами ташкентских и кокандских навкаров направился к Чимкенту, и с тех пор о них ни слуху ни духу.
Когда гости уже начали расходиться, в калитку вбежал Миръякуб. Ему, видно, сказали, что отец дома, — он бросился в отцовские объятия, и долго они стояли так — щека к щеке… Потом Миръякуб поздоровался с гостями. Его поздравили с возвращением отца под родной кров. Парень был бледен, возбужден — но не только из-за встречи с отцом. Задыхаясь, он сообщил, что войска Алимкулибека потерпели поражение, враг близко, жестокие бои идут уже на берегах Чирчика, в Урде паника, Насриддинбек приказал запереть городские ворота и всему народу готовиться к священной войне против гяуров.
— Спокойней, сынок, — со сдержанной досадой оборвал его Мирхайдар. — Ишь, даже губы трясутся. Передохни малость.
Он проводил гостей. Под вечер, закончив работу, ушли Камбарали и Тухтамурад. На айване остались лишь Мирхайдар, Шахриниса-хола и оба их сына.
Мирхайдар обратился к младшему:
— Вот теперь рассказывай. Алимкулибек в степи?
— Да. И с ним чуть не весь его двор. В конюшне почти не осталось добрых коней — все на войне. В Урде голову потеряли, носятся, как ошпаренные. А Насриддинбек и Асадуллахан вот-вот совсем передерутся. Прямо не знаю, чем все это кончится.
— Для народа — добром не кончится! Беки грызутся — страдает народ.
В разговор вступил Мирсаид:
— Верно, отец. В городе дороговизна. Да ничего и не купишь. Купцы из-за этой войны поприпрятали товары. На мучном базаре — шаром покати, одна ячменная мука, и за ту дерут втридорога. А посуду никто не берет…
— А я был у Саидкаримбая, — не к месту похвастался Миръякуб, — там свадьба, вот уж целую неделю — пир горой.
Мирсаид усмехнулся:
— На то он бай! Ему что — может хоть целый месяц пропировать, его от этого не убудет. А народ голодает.
— Саидкаримбай надел на Насриддинбека парчовый халат.
Мирхайдар жалеюще посмотрел на младшего сына, вздохнул, после некоторого молчания проговорил:
— Сынок!.. Полегчает немножко — я сам подарю тебе хорошего коня. Только оставь Урду. Не ходи туда больше. Скажи Авлиякулу-ата — мол, дома нужен. Будешь помогать Мирсаиду. А, сынок?
Миръякуб, не отвечая, набычившись, прихлебывал чай. Его упрямство огорчало Мирхайдара. После всего, что ему пришлось пережить, он вправе был ждать от сына заботы и послушания. Но недаром молвится, что как бы ни кусал ребенок грудь матери — ей не больно. Мирхайдар все готов был простить своему любимцу. Заметив, как недобро уставился на брата Мирсаид — вот-вот цыкнет на него гневно, — гончар умиротворяюще покачал головой: не трогай его! И завел речь о гончарных делах. Мирсаид с готовностью поддержал этот разговор:
— Как Тухтамурад-ака работает — залюбуешься! Медленно, да верно. А Камбарали обжигает посуду, ну точь-в-точь как вы это делаете!
— Видел бы, как гончарил покойный Тухтаназар-ака!.. Дело спорилось в его руках. Помню, твой дед сидел вот за тем станком, за которым ты работаешь, а Тухтаназар за другим. Я мешал для них глину, поддерживал огонь в печи. Вы в то время были совсем еще крохами…
И при этом воспоминании слабая улыбка забрезжила на лице Мирхайдара.
Прошли осень, зима — наступила весна 1865 года.
В Ташкенте с каждым днем становилось все голодней. К тому же не хватало воды. Деревья только-только начали зеленеть, а уже грянула необычная для весны, иссушающая жара. Арык Кайковус, воды которого не вмещались в берега, пересох, превратился в жиденький ручеек, а скоро и ручеек исчез — только глубокое, в трещинах, русло напоминало о том, что когда-то здесь шумели буйные волны. Высох и Анхор — вода задержалась лишь в редких впадинах, горожане вычерпывали ее оттуда ведрами. С усилением жары и от этих водоемцев остались только грязные, тухлые лужицы. Жажда мучила людей… Никто и не помышлял о севе — где уж там поить влагой поля, самим бы напиться. Вокруг хаузов, затянутых тиной, толпились стар и млад. Многие отправлялись за водой из центра города к окраинным родникам. Болели плечи, стертые тяжелыми коромыслами…