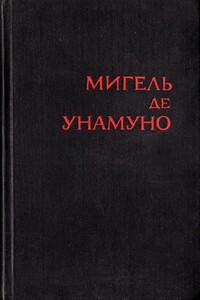В одних манифестах звучали призывы к установлению монархии, основанной на праве народа, освященной всеобщим избирательным правом, монархии народной, упраздняющей так называемое божественное право на престол; в других – требовали республики. Карлисты тоже не дремали в ожидании выборов в Учредительные кортесы, готовясь одержать победу не так, так эдак.
Игнасио испытывал глубокое беспокойство. Он боялся, что после шумного свержения королевы дон Карл ос будет возведен на престол под шумок, без борьбы, без упоительного чувства победы, что это будет очередная ложь. Повторятся ли они, те славные семь лет?
С первых дней революции Игнасио с головой ушел в деятельность карлистского клуба. Там проводил он все свободное время вместе с Хуаном Хосе, позабыв о былых приятелях по кутежам.
В начале шестьдесят девятого года ему поручили распределение бюллетеней к будущим выборам, и он восхищенно глядел, как ведомые своими пастырями крестьяне спускаются по горным дорогам, чтобы отдать голоса. Его восторженному взгляду казалось: это – победное шествие. После голосования Игнасио шел в клуб, окунался в его душную, накаленную атмосферу и выходил оттуда на улицу как в тумане. Все говорили разом и шумно; стараясь перекричать друг друга, рассказывали об ужасах революции. Где-то кто-то крестил младенца во имя Сатаны; службы во многих храмах были отменены, и, пожалуй, пора было брать пример с бургосских горожан, протащивших на веревке по улицам губернатора, вздумавшего изъять у церкви священные сосуды.
– Революция пожрет сама себя, оставьте ее, – говорил кто-то.
– А заодно и нас, – отвечал другой голос – Надо бороться!
Две наметившиеся в клубе тенденции разделили партию на сторонников решительных действий и сторонников выжидания. Одни цитировали апокалипсического Апариси, другие вздыхали по Кабрере. Игнасио чувствовал себя в этой бурлящей атмосфере как рыба в воде, и то же брожение крови, которое когда-то толкало его на путь греха, здесь закалялось и крепло в виде нового желания – желания воевать. Выжидание? Мирный триумф? Неужели можно позволить обстоятельствам самим возвести на трон дона Карлоса с его идеалами? Нет, это была ложь, узурпация, подтасовка. Без сопротивления, без борьбы победа теряла смысл.
Среди прочих он познакомился в клубе с неким Селестино, новоиспеченным адвокатом-карлистом, только что из университета, пылким, безудержным болтуном, охваченным ораторской горячкой, которую Революция разнесла по всей Испании. Он был один из тех, кого газеты называют «наш юный просвещенный сотрудник», и, целиком состоя из изречений и цитат, был полон штампованных идей, за каждой вещью видел тезу и антитезу, расписал весь мир по каталожным карточкам и на каждое суждение с молниеносной быстротой умудрялся навесить ярлык. Узкие шоры образования лишь укрепили в нем природную склонность к поверхностному и одностороннему взгляду. Имена Канта и Краузе не сходили у него с уст, и он без труда мог оппонировать сам себе.
Он заходил за Игнасио в клуб и с непременным: «О мой любимый Теотимо![67]» – уводил его на прогулку, во время которой говорил без умолку, осторожно выведывая у Игнасио его мнение по тому или иному вопросу.
Разглагольствуя о божественном праве и национальном суверенитете, он плел Бог весть какую ересь и засыпал вконец сбитого с толку Игнасио цитатами из Бальмеса, Доносо, Апариси, де Местра, святого Фомы, Руссо и энциклопедистов. Он знал немало латинских изречений, но главным его коньком были рассуждения о салическом законе[68] и о династических проблемах, и, не забывая процитировать: eris sub potestate viri,[69] он говорил о неудачной попытке объединения двух ветвей, о централизации и о фуэросах, о Карле III, испытавшем пагубное влияние либералов и регалистов, о великой эпохе великого Фердинанда и великого Филиппа. Он пророчествовал гибель испанскому обществу, которое мог спасти только гениальный посланец судьбы, сумевший бы мудро объединить основы древней, истинно испанской демократии и правильно понятой свободы. Он презирал настоящее, не укладывавшееся в его логические построения и упрямо противящееся ярлыкам, в отличие от книжного прошлого, прорехи которого он умело латал отрывками, добытыми из древних, как мумии, книг. События – их живая, горячая плоть – не давались ему, и он предпочитал изучать покорные мумии. Прошлое подчинялось его силлогизмам, во всяком случае, прошлое, созданное теми компиляторами письменных свидетельств, которыми он так восхищался. Таким образом, он, хоти и не без оговорок, с презрением относился к чистой философии и восхвалял историю – учительницу жизни. «Вот факты!» – восклицал он, цитируя упоминании о фактах, полустертые письменные свидетельства о некогда бывшем, и, веря в то, что ему удастся с их помощью, на исторической основе, выстроить в уме из шаблонов и штампов некий политический механизм на староиспанский лад, Селестино в то же время уничижительно называл якобинцами тех, кто пытался, на основе философской, выстроить конституцию по современному французскому образцу. Все его нудные разглагольствования на исторические темы постоянно вращались вокруг таких имен и названий, как Лепанто, Оран, Отумба, Байлен, Колумб, крест и корона. Он был кастильцем, кастильцем до кончиков ногтей, как сам он выражался, не знал иного языка, кроме испанского, – к чему! – и речь его была речью истинного христианина, называющего все своими именами.