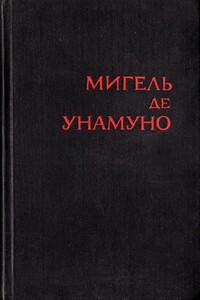Маленький оркестрик ходил по улицам, играя гимн Риего, и толпа мальчишек бежала впереди. Звуки гимна будили воспоминания в стариках и заставляли сильнее биться детские сердца.
Когда оркестр проходил по улице, где жил Педро Антонио, у доньи Микаэлы, жены Араны, на глазах показались слезы.
– Что с тобой, мама? – спросила Рафаэла, у которой при звуках музыки сильно забилось сердце.
– Эта музыка до добра не доведет… Без королевы будет война. А ты не знаешь, что это такое… – отвечала ей донья Микаэла, меж тем как горестные воспоминания детства теснили ей грудь, а звуки гимна болью отдавались в висках.
Стоя на пороге лавки, Педро Антонио и Гамбелу смотрели на оркестр, исполнявший гимн Риего.
– Может, это и есть тот грохот потрясений, о котором говорил Прим? – сказал Гамбелу. – И знаешь, меня он радует, Перико.
Мимо пробежал мальчуган, распевая:
Конституцию защищая,
Умер он со шпагой в руке…
– Уж не отец ли тебя научил этим глупостям, малыш? Это Риего-то со шпагой в руке, а? Вздернули его, твоего Риего, и горько ему было с жизнью расставаться…
– Так уж и горько… Посмотрим еще, кому под конец горше будет! – выкрикнул мальчуган и, отбежав на несколько шагов, обернулся, крикнул: – Карлисты проклятые! – и припустил дальше. Уже издали он еще раз обернулся: – Карлисты, карлисты проклятые! – и побежал догонять оркестр.
– Начинается! – пробормотал Педро Антонио, возвращаясь в лавку.
А Гамбелу напевал:
«Конституция или смерть!» —
Начертаем на знамени нашем.
Никакой нам предатель не страшен,
Как и смерть сама не страшна.
Многие жители Бисайи были довольны тем, что революция вернула им старинные права, отнятые Эспартеро, и что поэтому теперь те, кто последнее время находился у кормила власти, должны будут передать ее избранникам народа. Вспоминали о том, что, хотя низложенная королева и посещала трижды Сеньорию,[61] она ни разу не подтвердила прав бискайцев на старинные фуэрос.[62] Священник между тем провидел разного рода беды, долженствующие воспоследовать вслед за отменой должности коррехидора,[63] алькальда[64] и ординатора Эрмандады,[65] и без конца проклинал вергарский договор, особенно в присутствии дона Эустакьо, которому ничего не оставалось, как восклицать в ответ:
– Вот глядите, еще накличут эти священники войну, чтобы вконец нас разорить.
Однако все: Игнасио, Гамбелу и, прежде всего, священник – испытывали глухое раздражение против руководителей восстания; рассчитывая стать свидетелями чего-то действительно серьезного, трагического, они чувствовали себя обманутыми. Они смеялись над Славным Торжеством, поскольку на деле все ограничилось шумихой, сожженными портретами королевы, бесконечными прокламациями, размахиванием знаменами и выстрелами в воздух; серьезный оборот события приняли только в Сантандере. «Вот это было потрясение так потрясение, – повторял Гамбелу. – По всей форме! Да здравствует свобода! Да здравствует королева! Пли!.. Только так и можно, а не когда красавчик генерал въезжает в Мадрид, выходит на балкон, говорит речи, обнимается, целуется… вот бесстыжие! Да еще этот, шут итальянский,[66] что говорил из кареты про братство с итальянцами… И наобещали: выгнать иезуитов, закрыть монастыри, – болтовня все это, слова… Не посмеют, куда им! Эх, Перико, Перико, не видать нам уже тех времен, а помнишь, как кричали на улицах: "Смерть попам!" А эти, сегодняшние, грош им цена», – и с этими словами он поворачивался к Игнасио.
Священник считал наиважнейшим делом реорганизацию карлистской партии, чему отдавал все силы и дон Хосе Мариа, с интриганским видом появлявшийся на тертулии и, словно мальчик, решивший щегольнуть новыми ботинками, сообщавший известие об отречении дона Хуана в пользу своего сына Карлоса или зачитывавший ноту, в которой дон Карлос обращался к властителям Европы, чтобы подтвердить свое стремление на деле примирить полезные институты современности с неизбежным наследием прошлого, сохранив свободно избираемые Генеральные кортесы и введя конституцию в лучших национальных традициях. Зачитав бумагу, он еще раз пробегал ее глазами и погружался в глубокомысленное молчание в ожидании комментариев.